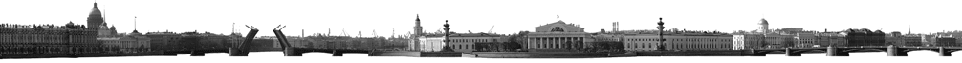И.А. Батракова
И.А. Батракова
Платоновская философия представляет собой пластичное преодоление односторонних принципов предшествовавших философских учений, включение их как абстрактных моментов в более конкретный и развитый философский принцип. Именно поэтому она диалектична.
Платон исходил из противоположности неопределенного бытия Парменида , абстрактного единого, мертвого покоя чистой мысли, и того, что в диалоге “Софист” характеризуется как небытие, поток чувственно многообразного, изменчивого, предмет мнения. Антитеза мыслимого бытия элеатов и чувственного бытия софистов, единого и многого, покоя и движения, предела и беспредельного, безотносительного (“в себе и для себя”, “самого по себе”) и относительного, бытия и небытия является основой для осмысления истинного.
Подлинным у Платона выступает всеобщее содержание бытия, выражаемое мышлением. Это подлинное бытие, которое есть и мысль, и предметная сущность, он определяет как идею. В понимании бытия по истине как мыслимого, всеобщего, рода, Платон следует за Парменидом. Но в само абстрактное парменидово бытие, единое, самотождественное, он включает определенность, соотносящееся с собой различие – триадичность пифагорейцев, как конкретное единство противоположностей тождества и различия, нечета и чета, предела и беспредельного, а также диалектический принцип единства бытия и небытия в становлении, разработанный Гераклитом.
Бытие Парменида, чистая мысль, выступало как абстракция от чувственного, мира движения и множества. Диалектика Зенона показала, что последние противоречивы. Настаивая на невозможности мыслить противоречие, она исключила из бытия противоречие и объявила чувственное, противоречивое небытием, а само небытие несуществующим. После того как бытие, единое, истина, оказались абстракцией от небытия как своего иного, софисты сделали справедливый вывод, что лжи не существует. Абстракция бытия-мышления, истины, элеатов превратилась в свою собственную противоположность – царство мнения, поток чувственного многообразия у софистов. Стремление к чистоте мышления представителей элейской и мегарской школ, отстаивавшими мысль о самотождественности идей и их изолированном от чувственного бытия существовании, привело к пониманию подлинного бытия, всеобщего, как абстрактного, безотносительного.
В сочинении “ О несуществующем, или о природе”, упоминаемом Аристотелем и Секстом Эмпириком, приписываемом софисту Горгию, рассматривается диалектика бытия [ Секст. Adv. Matem. V 65 ]. То, что бытия не существует доказывается сходно с диалектикой самого Зенона: если бытие существует, то противоречиво приписывать ему какую-либо определенность, так как любое определение приписывает бытию отрицание, то есть сказывается о нем как о небытии [ Aristotel., De Xenophane, Zenon et Gorgia, c. 5 ]. Но такое лишенное определений бытие, единое, во-первых, нигде не существует (не имеет места), так как ни с чем не соотносится, ни с другим, ни с самим собой. Во-вторых, непознаваемо, в-третих, невыразимо в речи1.
Здесь мы сталкиваемся с диалектикой границы, определенности, которая высказывалась Гераклитом и пифагорейцами. Все существующее определено лишь через соотнесенность со своей противоположностью: бытие – с небытием, единое – со многим, нечет – с четом, и т.д. Все самотождественное, “само по себе”, есть через различенность со своим иным, основание этого различия и есть основание их единства, тождества, подобно тому, ”как расходящееся с самим собой приходит в согласие, самовосстанавливающуюся гармонию лука и лиры” у Гераклита ( в понятии Логоса ) [ Ипполит. Refut. IX 9 ]2. То же представляет собой единство противоположностей нечета и чета как элементов числа, предела и беспредельного, единого и многого в понятии единого у пифагорейцев [ Аристотель. Metaf.15]3.
Итак, если Зенон и Мелисс рассмотрели диалектику многого и движения, небытия, то Протагор в своих “Антилогиях” и Горгий вскрыли внутреннюю противоречивость бытия в себе, единого в отрыве от многого. Обе односторонности, абстракции, оказались неудовлетворительны. В связи с этим понятна критика Платоном и Аристотелем отрыва сущности, сути бытия, от существования: мыслимого ( идеи ) от чувственного, единого от многого, безотносительного, абсолютного, от становящегося.
Опираясь на сократовское понимание всеобщих определений мышления как сути бытия единичного, а также на его телеологию, Платон объективизирует определения мышления, характеризуя идею и как всеобщую форму мышления, и как всеобщую форму бытия (бытие по истине, сущность ). Идея понимается Платоном как род, но не абстрактно противостоящий чувственно многообразному единичному, а как цель, внутренне организующая его, как “парадигма”, форма организации вещей, то, чем они должны быть, то есть определенно.
Таким образом, опираясь на отрицательные результаты диалектики элеатов и софистов, а также на диалектику Гераклита и пифагорейцев, Платон преодолел односторонность в понимании сути бытия, Единого, мыслимого, идеи, и понимал последнюю как определенную в ней самой, как конкретно-всеобщее, как единство единого и многого, тождества и различия, предела и беспредельного, бытия и небытия, равного себе и иного, покоя и движения, что видно по таким диалогам как : “Парменид”, ”Софист”, ”Филеб”.
Поэтому в этих диалогах, прежде всего, мы встречаемся с диалектикой чистых сущностей бытия, эйдосов подлинного бытия, идей, которая и есть диалектика сущностей мышления, категорий, так как подлинное знание содержится в подлинном бытии, согласно Платону (Федр, 247e)4 . Диалектика представляет собой здесь движение чистых форм бытия, сущностей, родов, в них самих, выраженное в мышлении, раскрытие определенности подлинного бытия (идеи) в подлинном знании. Мысль о соответствии формам познания форм бытия и о выражении в диалектике разума (logoV) как высшей форме мышления – мышлении в понятиях (nohsiV) – высшей формы бытия, первоначала (arch), разработана наиболее полно в конце шестой книги диалога“Государство”(509 – 511).
Весь диалог “Парменид” направлен на то, чтобы показать идею как содержательную, а не абстракцию от чувственного бытия (вещей), как конкретно-всеобщее, т.е. всеобщее, определенное в себе самом, единое и самотождественное, которое раскрывает свою собственную содержательность через процесс самоопределения, саморазличения себя и своего иного, но в этом различении одновременно сохраняется как единое, самотождественное, но уже в качестве обогащенного противоположностью, снявшее ее в себя, как тождество в различии, единое во многом, т.е. как конкретное, определенное единство противоположностей себя и своего иного – односторонних, абстрактных моментов целого. Таким образом весь диалог посвящен критике дуализма идеи и чувственного, сущности и существования, рода и отдельной вещи, всеобщего и единичного; в нем отстаивается позиция монизма, понимаемого не как внешнее соединение абстрактных моментов, а как диалектический процесс самоопределения всеобщего, идеи, единого, через самоограничение и снятие границы в конкретном индивидуальном, саморазличающемся тождестве, в основании тождества и различия, в самой идее как единстве противоположных абстрактных моментов. Это процесс саморазвития всеобщего в особенное и единичное, индивидуальное, саморазвитие интеллектуального универсума, как его и пытались осмыслить впоследствии неоплатоники, в частности Прокл.
Можно сказать, что весь диалог в обеих своих частях пронизан диалектическим пониманием сущего. Вся первая часть, следующая непосредственно за вступлением (126a-127d) посвящена критике идеи как абстракции всеобщего от чувственного бытия, с одной стороны, и критике эмпиризма, как абстракции чувственного от идеи, с другой (135c). В этом диалоге акцент сделан на критике дуализма сущности и существования, идеи и чувственного, она направлена прежде всего против абстрактного понимания мыслимого, бытия по истине: единого у элеатов и идеи у представителей мегарской школы. Критика эмпиризма подробно дается Платоном в других диалогах, в частности в “Теэтете”, поэтому здесь она лишь упоминается. Но не сказать о ней совсем Платон не мог, так как эмпиризм являлся альтернативой учению об идеях.
Вскрывая несостоятельность обеих абстракций: бессодержательной истины всеобщего единства и многообразных мнений, идеи и ее иного, чувственного, – Платон во второй части дает положительное, диалектическое разрешение этого противоречия, исходя из рассмотрения содержания, собственной определенности идеи самой по себе: на примере диалектики идей: единого, многого, тождества, различия и т.д. В процессе развития определенности идеи обнаруживается ее взаимопереход со своей противоположностью, со своим иным, и их различенное, конкретное единство.
Первая, критическая часть диалога “Парменид” начинается с того, что Сократ, прослушав сочинение Зенона, выделяет его основные положения: противоречивость природы многого и запрет противоречия (127e). Затем он указывает на тавтологичность положений элейской школы: утверждение единого и отрицание многого (128a-b), с чем Зенон в общем соглашается. Можно сказать, что здесь косвенно указано на бессодержательность, неопределенность учения элеатов о мыслимом бытии, едином. Далее Платон в речи Сократа как раз и переходит к вопросу об определенности идеи самой по себе (мыслимого бытия, бытия по истине, единого), а следовательно к вопросу о ее противоречивости. ”Пусть-ка кто докажет, что единое, взятое само по себе, есть многое и, с другой стороны, что многое [ само по себе] есть единое, вот тогда я выскажу изумление. И по отношению ко всему другому дело обстоит так же: если бы было показано, что роды и виды испытывают сами в себе эти противоположные состояния, то это было бы достойно удивления”(129c).
При этом Платон здесь четко отделяет положительную диалектику, взаимопереход идей в них самих (сущностей бытия – родов и видов) от показывания на чувственных примерах, но не доказывания логическим путем, что во всем чувственном, конечном, “приобщающемся”, содержится противоречие. Путь примеров неприемлем для философии как путь внешней рефлексии и тавтологии, так как множество и единство рассматриваются здесь в разных отношениях. Задача философии рассмотреть внутренне противоречивую природу сущностей, а не только явлений, конечного, вунтренне противоречивую природу самих идей, то, как они в своей обособленности и разобщенности являются взаимообусловленными, соотнесенными, подобными и неподобными в одном и том же отношении.
Зенон показал противоречивость множества, небытия. Платоновский Сократ предлагает сделать то же и для идей, бытия по истине, единого, мыслимого, для того, чтобы показать их содержательность, взаимоопределенность через противоположное (неудачное выражение “смешивание”). “Если же кто-то сделает то, о чем я только что говорил, т.е. сначала установит раздельность и обособленность идей самих по себе, таких как подобие и неподобие, множественность и единичность, покой и движение, и тому подобных, а затем докажет, что они могут смешиваться между собой и разобщаться, вот тогда, Зенон, я буду приятно изумлен. [...] Если бы кто мог показать, что тоже самое, затруднение всевозможными способами пронизывает самые идеи, и как вы проследили его в видимых вещах, так же точно обнаружить его в вещах, постигаемых с помощью рассуждения”(129e – 130a ). Здесь, по сути дела, набросан замысел второй части диалога, собственно положительно диалектической. Не случайно, что эта речь молодого Сократа вызывает восхищение Парменида и Зенона (130a-b).
Далее следует уточняющий вопрос Парменида о возможности раздельного существования идей самих по себе, с одной стороны, и причастного им, с другой (130b), так как ранее Сократ разделил диалектику многого, “причастного” (небытия), рассмотренную Зеноном, и диалектику идеи самой по себе (бытия), предложенную к рассмотрению им самим. Так что осуществляется логический переход к критике дуализма неопределенной идеи и причастного ей (чувственного), всеобщего и особенного, единого и многого, бытия и небытия, как двух абстрактных односторонних моментов подлинного бытия, определенной в себе самой идеи.
Характерно, что вся критика дуализма в диалоге Платона ведется от лица Парменида, как и диалектика единого и многого во второй части, как бы углубляющим свою мысль о неопределенном мыслимом бытии и переходящим к его определениям . Это критика абстрактного понимания идеи, рода, сущности, всеобщего.
Первый аргумент критики касается того, что необходимо признать отдельно существующие идеи и для самых ничтожных вещей ( волосы, грязь, сор и т.д.) (130с). Речь, по видимому, идет о несоизмеримости чувственно-конкретного и абстрактно-всеобщего (рода, понимаемого как абстракция от индивидуального ). Если идея, род, отделены от чувственно-единичного, то последнее не может быть понято. Либо надо определять чувственно-единичное из него самого, полагать,”что вещи только таковы, какими мы их видим”, т.е. отказаться вовсе от их понимания, раз для них нет идеи, и остановиться на “уподоблении” чувственному (вещам), на мнении (eikasia) как неистинной форме познания (смотри “Государство” 511е ), либо принять идею чувственного самого по себе, от чего мысль Сократа “ обращается в бегство”(130d). Мудрый Парменид здесь указывает Сократу: когда философия полностью завладеет тобой, “ни одна из таких вещей не будет казаться тебе ничтожной, теперь же ты, по молодости, еще слишком считаешься с мнением людей”(130e). В уста Парменида, по сути, вложена мысль о том, что все единичное должно получить свое объяснение в философии через свой род, всеобщее, идею, которая поэтому не должна существовать обособленно.
Второй аргумент критики отвлеченности идеи от чувственного многообразия касается понятия “приобщения”, и распадается на два момента: приобщения вещей к целой идее и к ее части. Многообразное чувственное, вещи, не могут приобщаться к целой идее “ведь оставаясь единою и тождественною, она, в то же время, будет вся целиком содержаться во множестве отдельных вещей и, таким образом, окажется отделенной от самой себя”(131b), т.е. окажется делимой и различенной. Идея, понимаемая как абстрактно-всеобщее наряду с особенными вещами (чувственным), сама оказывается чем-то особенным, вещью наряду с другими вещами, подобно накрывающей их парусине так, что в каждой вещи будет находиться лишь часть идеи. Парменид не случайно приводит такой шокирующий пример абстрактного понимания идеи. Сократ пытается дать более соответствующее диалектической природе идеи сравнение: “один и тот же день бывает одновременно во многих местах и при этом нисколько не отделяется от самого себя, так и каждая идея, оставаясь единою и тождественною, может в то же время пребывать во всем”(131b). Таким образом, идея не может рассматриваться как абстракция единства и самотождественности, как абстрактно-всеобщее, подобно тому, “что единое все целиком находится над многими” (там же), а как различающее себя в себе тождество, т.е. как конкретно-всеобщее, род, внутренняя цель, в самих этих многих, как их собственная определенность ( курсив мой – И.Б.).
Аналогично доказывается невозможность причастности чувственного (вещей) части идеи. Так часть идеи великости должна оказаться меньше самой идеи великости, тогда и вещи, приобщающиеся к этой части, не будут великими.
Третий аргумент (132a-133a) в критике дуализма идеи и чувственного по сути совпадает с аргументом Аристотеля “третий человек”. Идея, единая и тождественная, здесь рассматривается как основание подобия, сходства, результат абстрагирования, результат внешней по отношению к чувственному деятельности обобщения. Указывается на то, что между уже отвлеченной от великих вещей идеей великости и самими великими вещами можно указать еще одно основание подобия, тождества, то есть еще одну идею великости и так до бесконечности. Вместо единой идеи получается “бесчисленное множество” идей, каждая последующая из которых будет абстракцией от абстракции, обобщением обобщения, (подобно пирамиде отвлечения у Локка): “Итак, откроется еще одна идея великости, возникающая рядом с самим великим и тем, что причастно ему; а надо всем этим опять другая…”(132b). Поэтому всеобщее не может находиться над особенным.
Но само единое и всеобщее основание подобия чувственного многообразного (идея) может быть или субъективным, или объективным, поэтому третий аргумент распадается на две части. В связи с выявленной Парменидом противоречивостью идеи как абстракции от причастного ей, Сократ сначала пытается трактовать идею чисто субъективистски: “Не есть ли каждая из этих идей – мысль, и не надлежит ли ей возникать не в другом каком-либо месте, а только в душе? В таком случае каждая из них была бы единою…”(132b). На что Парменид справедливо замечает, что мысль предметна, содержательна, она мыслит идею как то единство (род) подобных между собой вещей и эта идея остается самотождественной для всех этих вещей. Поэтому, если мысль предметна и есть мысль об объективной сущности вещей (их всеобщем, идее), но при этом остается лишь субъективной мыслью (только в форме самосознания), то получается, “что либо каждая вещь состоит из мыслей и мыслит все, либо, хоть она и есть мысль, она лишена мышления”, что “лишено смысла”, согласно реплике Сократа. Действительно, чувственно-конкретное не является непосредственно мыслью, всеобщим, формой самосознания, для себя бытием. Мысль о всеобщем, идея, род, не существует непосредственно в форме чувственного ( вещи ), а в форме самосознания. Но это не значит, что всеобщее, род, не является сущностью чувственного бытия. Итак, негласным выводом первой части третьего аргумента выступает то, что идея, (всеобщее) не может существовать только в душе (субъективно).
Поэтому Сократ переходит к противоположному предположению – объективному существованию идеи как образца, существующего отдельно по отношению к уподобляющемуся ему чувственному (вещам) (132d). В связи с этим Парменидом вновь выдвигается аргумент о бесконечном возникновении новых одноименных идей – объективных оснований подобия идеи и чувственного (131d – 133a). Общий вывод из третьего аргумента – тот, что, “вещи приобщаются к идеям не посредством подобия: надо искать какой-то другой способ их приобщения”(133a).
Указывая на это затруднение, возникающее при допущении существования идей самих по себе, и предрекая дальнейшие затруднения при допущении обособленного существования единой идеи для каждой вещи (133a-b), Парменид формулирует свое следующее возражение.
Четвертый аргумент касается невозможности перейти в познании, с одной стороны, от подобий к идее (от особенного ко всеобщему), а, с другой стороны, от идеи к подобиям (от всеобщего к особенному) при их обособленном существовании.
Во-первых, “самостоятельно существующие сущности” непознаваемы для нас как конечных существ, относящихся лишь к области их подобий. Ни одной такой сущности в нас нет”(133c). Если в особенном нет всеобщего, в явлении нет сущности, в подобном нет идеи, то нет и познания этого всеобщего. “Ибо все идеи суть то, что они суть, лишь в отношении одна к другой, и лишь в этом отношении они обладают сущностью, а не в отношении к находящимся в нас [их] подобиям ( или как бы кто их не определял ), только благодаря причастности которым мы называемся теми или иными именами.[...] Все эти подобия образуют свою особую область и в число одноименных им идей не входят” (133c-d). Подобие не может познавать свою идею, явление – сущность, душа – истину. “ И то, что в нас не имеет никакого отношения к идеям, равно как и они к нам”(134).
Поэтому, “знание само по себе, как таковое” должно быть знанием “истины самой по себе” (134a), или иначе: “…Каждый существующий сам по себе род познается, надо полагать, самой идеей знания”(134b). Всеобщее бытие (истина, идея, род) познается всеобщей же формой мышления (идея знания, знание само по себе). И если в нас нет формы всеобщего ( идеи знания ), то мы и не способны познавать это всеобщее ( идею, сущность саму по себе) в бытии. Но “наше знание”, поскольку мы (душа) есть лишь подобие идей, есть лишь “знание нашей истины” и “относится к одной из наших вещей”, т.е. есть знание подобий, конечного, чувственного. Следовательно, идея, сущность для человека не познаваема, поскольку он есть лишь ее подобие, явление и ей “не причастен” в силу ее обособленного существования.
Но не только сущность непознаваема для явления, всеобщее для особенного, идея для подобного при их обособленности, но и, наоборот, с позиции абстрактно-всеобщего, идеи знания, знания самого по себе, совершенного знания бога, нельзя ничего знать об области подобий, чувственного. “…Сила тех идей не распространяется на то, что у нас, и, с другой стороны, сила того, что у нас, не распространяется на идеи, но то и другое довлеет самому себе”(134d).
Платон указывает на неизбежность дуализма бога и мира, сущности и существования, а также на неизбежность агностицизма при отвлеченном, недиалектическом понимании идеи.
Далее делается вывод из всех предшествующих аргументов, направленных против того, “ если мы будем определять каждую идею как нечто самостоятельное”(135). “…Этих идей либо вовсе нет, либо если уж они существуют, то должны быть безусловно непознаваемыми для человеческой природы”(там же). Платон, по сути дела, повторяет здесь вывод Горгия, сделанный из рассмотрения неопределенного бытия, бытия-абстракции Парменида, вкладывая его в уста самого Парменида.
Называя такие возражения “основательными”, Платон, тем не менее, не отказывается от признания того, что “существует некий род каждой вещи и сущность сама по себе”(135b), выдвигая одновременно аргумент и против сенсуализма, тот, что “не допуская постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей”, некуда будет “направить свою мысль”(135b-c) в неразличимом потоке ощущений, описанном Кратиллом и софистами, что “уничтожит всякую возможность рассуждения”.
Итак, философия невозможна, если не преодолеть двух односторонностей в понимании идеи, сущности: абстрактной всеобщности, отвлеченности, и сенсуализма. “Что же ты будешь делать с философией? Куда обратишься не зная таких вещей?”(135c). Следует вывод о необходимость диалектического понимания идеи. “Преждевременно, не поупражнявшись как следует” нельзя браться за определение идеи. ”Поупражняйся побольше в том, что большинство считает и называет пустословием; в противном случае истина будет от тебя ускользать”(135d). Таким образом, для определения идеи, сущности, рода, всеобщего, необходима диалектическая культура ума. В качестве способа упражнения упоминается диалектика многого Зенона. Но и она отвергается как отрицательная диалектика конечного, видимого. “Впрочем, даже ему, к моему восхищению, ты нашелся сказать, что отвергаешь блуждание мысли вокруг да около видимых вещей, а предлагаешь рассматривать то, что можно постичь исключительно разумом и признать за идеи”(135e). Мало показать противоречивость чувственного, конечного, являемого, небытия, надо вскрыть противоречивость, а следовательно и определенность, самих идей, сущностей, бытия. Надо было от отрицательной диалектики конечного, саморазлагающегося на противоречия и гибнущего в своем ином, разработанной элеатами и софистами, перейти к положительной диалектике идеи (всеобщего), распадающейся на противоположные моменты своей определенности, но и самовосстанавливающей их конкретное, различенное, единство. Такой переход явился несомненной заслугой Платона.
Эти упражнения в диалектике идеи должны, во-первых, вывести следствия из предположения идеи, т.е. рассмотреть ее собственную определенность, а не внешние рефлексии, во-вторых, рассматривать идею через форму соотношения с самой собою и со своим иным при положении и при отрицании того и другого. “…Допусти, что существует многое, и посмотри, что должно из этого вытекать как для многого самого по себе и в отношении к самому себе и к единому, так и для единого в отношении к самому себе и ко многому”(136).
Эти диалектические упражнения не самоцель, а средство “прозреть истину”(136c), сама истина. Диалектика приобретает здесь даже эзотерические черты : ”…Не след говорить об этом при многих, да еще человеку в преклонном возрасте: ведь большинство не понимает, что без всестороннего и обстоятельного разыскания невозможно уразуметь истину”(136e), “переплыть эту глубь и ширь рассуждений”(137b). Неслучайно Платон в “Государстве” советует не допускать до изучения диалектики раньше тридцати лет, а также то, что лекции “ О благе” не записывались.
Диалектика идеи и есть сама истина, как на то указывается в диалогах “Государство”, “Федр”, ”Федон”, ”Теэтет”, ”Софист”, “Филеб”. “…Диалектика будет у нас подобной карнизу, венчающему все знание, и было бы неправильно ставить какое либо иное знание выше нее: ведь она вершина их всех”(Государство, 534e). Тот, кто следует диалектическим путем, “минуя ощущения, посредством одного лишь разума устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не постигает сущности блага”(там же, 532a-b) – беспредпосылочного, всеобщего первоначала как единства мыслимого и мышления, всеобщего основания единства бытия и мышления. Все остальные науки лишь “грезят” о первоначале, пользуясь предположениями, основанными на образах и мнениях, этот раздел умопостигаемого Платон называет рассудком, занимающим промежуточное положение между мнением и разумом (511d). Разум же с помощью диалектики, опираясь на предположения, восходит к первоначалу, непредполагаемому. “Достигнув его и придерживаясь всего, что с ним связано, он приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном отношении, и его выводы относятся только к ним”(511b). Причем “бытие и все умопостигаемое при помощи диалектики можно созерцать яснее”, чем с помощью остальных наук, основанных на предположениях (511c).
Таким образом, Платон указывает на два момента диалектического движения: “путь к началу” - восхождение по видам и родам, на основании предпосылок, ко всеобщему основанию, или восхождение от разрозненных явлений к идее, и “путь к завершению” – нисхождение при помощи идей самих по себе (Государство,510b) – “умение различать по родам, насколько каждое может вступать в общение и насколько нет”(Софист, 253d). Эти два пути диалектики указаны и в других диалогах: “Федр”(265d-e), “Федон”( 101d), “Пир”( путь восхождения). Первый момент диалектического движения представляет собой отрицательную диалектику, по определению Гегеля5 , диалектику разложения конечного, перехода в свою противоположность, и за счет этого приведения его ко всеобщему основанию: разрозненных явлений – к сущности, мнения – к знанию, чувственного – к идее, “бывающего”- к подлинному бытию. Эту диалектику, направленную на разложение мнений, небытия, мы видим у элеатов, софистов, Сократа и самого Платона. Однако, исторической заслугой последнего является то, что он не остановился на этом отрицательном результате взаимоперехода противоположностей в сфере явлений, особенного, конечного, многого, чувственного, небытия, а раскрыл положительную диалектику сущности, идеи, всеобщего, т.е. наметил путь науки от всеобщего к особенному, указав на определенность, содержательность идеи, сущности, в ней самой. Он не остановился на моменте апорийности, неразрешимости противоречия, взаимоуничтожении противоположностей, а развил мысль о положительном единстве противоположностей во всеобщем основании, в идее, высказанную в абстрактном виде Гераклитом и пифагорейцами. В “Пармениде”, правда, этот вывод не сделан отчетливо, но все движение мысли ведет к необходимости признания конкретного, различенного, единства противоположностей единого и могого, тождества и различия, а следовательно к необходимости признания определенности, содержательности идеи в ней самой. Диалектика идеи (чистой сущности) здесь выступает как саморазвитие ее содержания, определенности, через выявление односторонних противоположных моментов этой определенности, и раскрытие их единства во взаимной соотнесенности.
Итак, между первой и второй частями диалога “Парменид” существует непосредственная логическая связь. Если первая часть, посвящена критике понимания идеи, сущности, единого, бытия, как неопределенных, абстрактных, что явилось источником представлений о дуализме идеи и чувственного, сущности и являемого, единого и многого, бытия и небытия; то вторая часть на основании мысли о содержательности, определенности, а следовательно и внутренней противоречивости идеи в ней самой (на примере идеи единого, идеи многого и т.д.), призвана показать как этот дуализм разрешается в процессе диалектического развития содержания, определенности самой идеи. Задача в том, чтобы дать развернуться имманентному содержанию идеи, сущности самой по себе – это процесс саморазвития всеобщего в особенное, единого во многое, сущности в существование, идеи блага в чувственный мир, как его и понимали впоследствии неоплатоники.
Первое предположение на пути исследования определенности идей, намеченном платоновским Парменидом в первой части диалога – предположение единого самого по себе в его отвлеченности от многого, предположение абстракции единого, неопределенного единого, высказанное историческим Парменидом с выводами из него, сделанными Горгием, как уже отмечалось. Краткой формулировкой этого положения является: “единое едино” (142c), так как никаких определений у этой абстракции единства быть не может, на что и указывает здесь Платон, раскрывая объективную диалектику границы как основания определения. У такого неопределенного единого могут быть лишь отрицательные определения ( можно сказать, что Платон дает логическое обоснование всей последующей апофатической теологии ): не многое, не целое, беспредельное (т.к. не имеет границы), не находится нигде: ни в себе самом, ни в другом ( т.е. не соотносится ни с собой, ни с другим), поэтому, не движется и не покоится, не тождественно ни себе, ни иному, не отлично ни от себя, ни от иного. Платон раскрывает здесь объективную диалектику отрицательности всего положенного (determinatio est negatio), поскольку оно полагает момент различенности в себе самом. Все положительное, самотождественное, отрицательно по отношению к себе и своему иному: “…Если бы единое обладало какими-либо свойствами, кроме того, чтобы быть единым, то оно обладало бы свойствами быть большим, чем один, что невозможно.[...] Следовательно, единое вовсе не допускает тождественности – ни другому, ни самому себе”(140a), равно как и отличия от самого себя и от другого. Важно подчеркнуть объективный характер этой диалектики единого, осуществляющейся не посредством внешней деятельности сравнивания (философом), а посредством внутренней рефлексии самого единого.
Не будучи ни тождественным, ни различенным, единое не причастно также и времени. Общий вывод: единое вообще не существует,“не существует оно, следовательно, и как единое, ибо в таком случае оно было бы уже существующим и причастным бытию” (141e), т.е. было бы определено, различено в себе и от своего другого, множественно и причастно всем другим определениям. “Следовательно, не существует ни имени, ни слова, для него, ни знания о нем, ни чувственного восприятия, ни мнения”(142a), что не возможно для действительного, существующего единого. С этим выводом мы встречались уже у Горгия, вслед за которым Платон раскрывает объективную диалектику абстракции единства от действительного единого, в самом себе многого.
Поэтому следующее, второе предположение исходит из существующего, определенного единого: ”Теперь же мы исходим не из предположения “единое едино”, но из предположения “единое существует”(142c). Единое и бытие, по Платону, “различны между собою в силу иного и различенного”(143b). “…Необходимо, чтобы само существующее единое было целым, а единое и бытие – его частями”, которые в свою очередь тоже разделены на части единого и бытия так, что существующее единое представляет собой бесконечное множество (142d-143a). Речь идет о “сочетании двух членов”(143d), о соотнесенности противоположностей в полагании определенности одного, в полагании границы. Поскольку единое существует, оно определено через свое отличие от бытия, как своего иного. Все положительное определено через отрицательность, через различенность себя самого и своего иного, т.е. различено в себе самом.
Не только существующее единое, но и единое само по себе определено в самом себе через полагание различия себя и своего иного, т.е. оно беспредельно множественно, так как все положенное определено через внутреннюю различенность, полагание границы. Существующее единое одновременно и беспредельно множественно, и полагает себе предел, будучи ограничено как целое (145a), т.е. оно есть оформленное, организованное множество. Это диалектическое единство предела и беспредельного воспринимается Платоном от пифагорейцев. Далее он развивает диалектику границы: сущее единое находится и в себе самом (как совокупность частей), и в другом (как целое), и покоится, и движется, тождественно самому себе и отлично от себя, тождественно другому и отлично от другого.
В этом рассмотрении природы существующего, определенного единого Платон наиболее ярко раскрывает положительную диалектику сущности, показывая не только распадение единого на противоположности, но и их обратное разрешение в конкретном единстве, в основании их различия, которое одновременно является и основанием их тождества. Единое и иное (не единое, многое) тождественны и различны в одном и том же отношении, на одном и том же основании, в той же мере. Должно “тождественное находиться в ином и иное в тождественном” (146d). Высказывается идея тождества в различии, или различенного в себе самом тождества – единого основания противоположностей тождества и различия, единого и иного (многого), идея меры. “Итак, в какой мере единое отлично от другого, в такой же мере другое отлично от единого, и что касается присущего им свойства “быть отличными”, единое будет обладать не иным каким-либо отличием, а тем же самым, каким обладает другое. А что хоть как-то тождественно, то подобно.[...] И вот в силу того что единое обладает отличием от другого, по той же самой причине каждое из них подобно каждому, ибо каждое от каждого отлично”(148a).
Будучи причастно бытию, единое различено в самом себе на себя и свое другое, множественно, следовательно, причастно также времени и становлению. Подобно тому, как существующее, определенное единое есть единство единого и многого, тождества и различия как односторонних моментов, это единое во времени понимается Платоном как единство “прежде” и “потом” в “теперь”, в становлении (152b), а становление – как единство бытия и небытия, покоя и движения, так что единое всегда и есть, и становится, а с другой стороны не есть и не становится (155c), находится вне времени (156c). Поскольку единое самосохраняется во времени, в становлении, в единстве определяющих их противоположностей, “поэтому возможно нечто для него и его и это нечто было, есть и будет.[...] Возможно, значит, его познание, и мнение о нем, и чувственное его восприятие…И есть для него имя и слово, и оно именуется и о нем высказываются; и все, что относится к другому, относится и к единому”(155d-e). Таким образом, относительно существующего единого делается противоположный вывод нежели относительно одностороннего, абстрактного единого, отвлеченного от своей противоположности (многого).
Третье предположение рассматривает, “что испытывает другое существующего единого”(157b). Поскольку другое существующего, определенного единого есть “другое по отношение к единому”, т.е. другое в определенном отношении, то оно и определено этим отношением ( своей границей ) и отрицательно, и положительно: оно с одной стороны, не есть единое, а есть многое и имеет части, с другой, оно причастно единству, так как части есть лишь у целого. Здесь Платон разрабатывает диалектику части и целого, согласно которой многое, имеющее части, должно быть “единым законченным целым”(157e). То же относится и к каждой отдельной части, которая для того, чтобы быть “отдельным, обособленным от другого и существующим само по себе” (158a), должна быть целым, единым, ”некоей одной идеей”. Части обладают пределом по отношению друг к другу и по отношению к целому. С другой стороны, иное, не-единое, многое, является количественно беспредельным, поскольку представляет “иную природу идеи саму по себе”, т.е. иное самого себя – бесконечную делимость, “так как природа другого сама по себе – беспредельность”. Часть множества сама является множеством, но завершенным, определенным, единым целым, как и само множество есть оформленное, организованное единство.“Таким образом, другое – не-единое – и как целое, и как части, с одной стороны, беспредельно, а с другой – причастно пределу”(158d).
Здесь, по сути дела, мы видим диалектику “иной природы идеи самой по себе”, т.е. диалектику материи. Это оформленная, организованная материя, единое во многом, именно так ее и будет рассматривать Аристотель. Схожую аргументацию можно обнаружить и у Канта в рассмотрении математических антиномий чистого разума, связанных с противоречием количественной и качественной конечности и бесконечности, предела и беспредельности. Так доказательство тезиса первой антиномии основывается на следующем: для того чтобы мыслить мир как “данное целое” в пространстве и времени, надо полагать границы “бесконечному агрегату действительных вещей”6, его частей, “так как границы уже определяют завершенность”7 , законченность синтеза частей в целое, оформленность целого. Антитезис же раскрывает относительность полагания количественной границы, предела. Вторая антиномия рассматривает противоречие качественной границы, предела деления и бесконечной делимости, противоречие дискретности и непрерывности материи. Платон, однако, не переходит здесь к более конкретным категориям, а остается в рамках диалектики чистых категорий единого и многого, целого и части, предела и беспредельного. Гегель в “Науке логике” также разбирает противоречие чистой категории количества.
Части другого также подобны и неподобны себе самим и друг другу, “тождественны себе самим и отличны друг от друга, движутся и покоятся и имеют все противоположные свойства…”(159a-b). Таким образом, другое выступает как другое себя самого, которое и тождественно себе и отлично от себя в целом и в частях.
Поскольку речь идет о другом существующего, определенного единого, то и это другое, не-единое, многое, выступает как существующее, определенное многое, не отвлеченное от единого, а находящееся с ним в конкретном единстве. По сути дела, вторая и третья гипотезы выражают диалектическую природу действительного единого и действительного многого – конкретное единство противоположностей единого и многого.
Четвертое предположение, разбираемое Платоном, рассматривает выводы для другого, существующего отдельно от единого, т.е. отвлеченного, абстрагированного от единого. Берется формально-логическое понимание единого и другого как абстрактно самотождественных и абстрактно различенных друг от друга с исключением третьего как основания их определенного различия и тождества (границы). Соотношение исключается. Это позиция: “единое едино”, другое есть абстрактно другое, А – не-А. “Следовательно нет ничего отличного от них, в чем единое и другое могли бы находиться вместе [...] Следовательно, они находятся отдельно [ друг от друга]“(159c-d). “…Единое отдельно от другого и не имеет частей”. “Поэтому другое никоем образом не есть единое и не имеет в себе ничего от единого. [...] Следовательно, другое не есть также многое, потому что если бы оно было многим то каждое из многого было бы одной частью целого. На самом же деле другое – не-единое – не есть ни единое, ни многое, ни целое, ни части, раз оно никак не причастно единому”(159d). Как нет единого без многого, так нет и многого без единства. Вне определенного отношения, вне конкретного, т.е. различенного тождества, единства во множественности, единое и многое не существуют.
Другое “единого единого”, другое отвлеченного единого, также не есть ни подобное, ни неподобное ни себе, ни единому, “ ни тождественное, ни различенное, оно не движется и не покоится…”, не обладает никакими свойствами,”поскольку оно совершенно и всецело лишено единого”(160b). В том, в чем нет единства, нет самотождественности, равенства себе, подобия себе, нет также и различия с собой и с другим, так как “оказалось невозможным чтобы было причастно двум то, что не причастно даже одному”(159e), одной идее единого.
Мы видим здесь пример отрицательной диалектики Платона, направленной на разложение абстракции единого от многого и абстракции многого от единого, неопределенного бытия Парменида и неопределенного многообразия софистов.
Платон делает вывод, относящийся, по видимому, ко всем четырем предположениям, основанным на полагании единого: ”Таким образом, если есть единое, то оно в то же время не есть единое ни по отношению к себе самому, ни по отношению к другому”(160b). То есть, единое не есть само по себе, а переходит в свою противоположность, единое относительно.
Далее Платон переходит к рассмотрению гипотез, основанных на отрицании единого. В пятом предположении при рассмотрении диалектической природы идеи единого ставится вопрос: “чем должно быть единое, если оно не существует?”(160d). Сначала Платон исходит из того, что единое не существует определенным образом, “некоторым образом”. “…Называя нечто несуществующим, мы считаем, что оно некоторым образом не существует, а некоторым образом существует”(163e). Единое здесь отрицается не абстрактно, а в отношении к своему иному, т.е. это относительное, определенное отрицание, определенное отрицательным отношением со своим иным. Но отрицание своего иного есть положение себя, утверждение. Таким образом, несуществующее единое полагает себя существующим относительно своего иного. Здесь мы встречаем ту же диалектику границы, что и при рассмотрении гипотезы “единое существует”. Все существующее и несуществующее суть лишь в отношении к своему иному, и в этом отношении оно и отрицается, и полагается. Эту же диалектику мы встречаем и в диалоге “Софист”, где небытие рассматривается как иное бытия, т.е. как относительно несуществующее, как существующее определенным образом.
“Итак, говоря “единое” и присовокупляя к этому либо бытие, либо небытие, он выражает, во-первых нечто познаваемое, а во-вторых, отличное от иного”(160c-d). Относительно несуществующее единое будет причастно многому, “коль скоро не существует именно это единое, а не какое-либо другое”(161a), т.е. поскольку оно соотнесено с иным себя самого, многим. Оно также будет неподобно по отношению к иному и подобно по отношению к самому себе (161b), поскольку оно есть неподобное своего неподобного (иного), не равно иному и, в силу этого, причастно великости, малости и равенству. “А неравное не в силу ли неравенства есть неравное?”(161c), т.е. не в силу ли основания неравенства, которое есть одновременно и основание равенства.
Раз относительно несуществующее единое равно иному – существующему, соотнесено с ним, то оно существует. Бытие и небытие суть лишь в отношении друг к другу, во взаимоопредлении. “…Существующее, чтобы быть вполне существующим, причастно бытию, [содержащемуся в] “быть существующим”, и небытию, [содержащемуся в] “быть несуществующим”, и поскольку несуществующее причастно небытию, [содержащемуся в] “не быть не существующим”, и бытию, [содержащемуся в] “быть несуществующим” [...] Итак, раз существующее причастно небытию и несуществующее – бытию, то и единому, поскольку оно не существует, необходимо быть причастным бытию, чтобы не существовать”(162a-b). Таким образом, несуществующее единое определено к существованию через отношение отличия от иного – существующего, поскольку без тождества нет различия. Как отрицание иного, оно есть утверждение. Определение и есть основание различия и тождества со своим иным.
Поскольку относительно несуществующее единое и определенным образом не существует, и определенным образом существует, то оно изменяется, движется, становится; поскольку переходит от бытия к небытию (162c), и не изменяется, не движется, не становится ни как существующее, ни как несуществующее, поскольку оно есть единое, а не иное (многое). Таким образом, об этом относительно несуществующем едином делается вывод, “что оно некоторым образом не существует, а некоторым образом существует”, оно и единое, и многое, обладает всеми противоположными определениями, и потому познаваемо через отношение отличия от своего иного, о чем говорилось Платоном в начале рассмотрения этого предположения.
Шестое предположение зиждется на абстрактном отрицании единого и схоже с тавтологией Парменида: “несуществующего не существует” никаким образом, если его применить по отношению к единому. “Или это выражение “не существует” просто означает, что несуществующего нет ни так ни этак и как несуществующее оно никак не причастно бытию”(163c). Как абстракция от бытия, иного, несуществующее не существует безотносительно, т.е. абстрактным образом, поэтому оно как абстракция, отвлеченность, ни с чем не соотнесенная, и не познается.
Не будучи соотнесено с бытием, т.е. не будучи причастным бытию, несуществующее единое не становится: не возникает и не гибнет, не изменяется, не движется, не стоит на месте. Ему не присуще ничто из существующего: ни великость, ни малость, ни равенство, “ни подобие, ни отличие ни в отношении себя самого, ни в отношении иного”, так как “ничто не должно к нему относиться”(164a). Таким образом, будучи неопределенным в силу отсутствия отношения со своим иным, несуществующее единое ничего не претерпевает, не познается. По сути дела, оно есть ничто. “Ну а будет ли иметь отношение к несуществующему следующее:“того”,”тому”,“что-либо”,“это”,“этого”,”иного”,“иному”,”прежде”,”потом”,“теперь”,”знание”,”мнение”,”ощущение”,”слово”,”имя” или иное что-нибудь из существующего? – Не будут”(164a-b). Этот вывод подобен выводу из предположения“единое едино”, или “существующее существует”, так как в обоих случаях мы имеем дело с безотносительным, отвлечением от своей противоположности, а следовательно с неопределенным, абстракцией, с тем, что не существует по истине и не познается.
Седьмое предположение рассматривает “каким должно быть иное, если единого не существует”. Причем, единое здесь отрицается относительно, определенным образом, поэтому и иное относительно определено, а не бессодержательно, абстрактно. “…Иное, что бы действительно быть иным, должно иметь нечто, в отношении чего оно есть иное”(164c), т.е. противоположный член отношения, определения. Все относительно, т.е. соотнесено со своей противоположностью, или оно есть ничто, неопределенное, абстракция, этот случай разбирается в следующей восьмой гипотезе.
Поскольку единого не существует, то об ином можно сказать: “следовательно, оно иное по отношению к себе самому”, иное себя самого.”Стало быть любые [члены другого] взаимно другие, как множества; они не могут быть взаимно другими, как единицы, ибо единого не существует. Любое скопление их беспредельно количественно. [...] Итак, будет существовать множество скоплений, каждое из которых будет казаться одним, не будучи на самом деле одним…”, “если вообще существует иное, когда не существует единого”(164c-d) ( курсив мой – И.Б.). Иное самого себя есть беспредельное деление, неорганизованная, неоформленная множественность – “скопления”, хаос, по сути дела, поскольку нет единого как предела деления, принципа одного, целого, формы. В этом смысле, без единого нет и многого со всеми его определениями, а оно лишь кажется многим, имеющим число, чет и нечет, беспредельным имеющим предел, подобным и неподобным, тождественным и различным, движущимся и покоящимся. Но то, что кажется чувству, ”слабому зрению”, “противно истине”, постигаемой мышлением. “…Все существующее, какое кто-либо улавливается мыслью, должно, полагаю я, распадаться и раздробляться, ибо его можно воспринять лишь в виде скопления, лишенного единства”(165b). Представляется, что это чисто логическое рассмотрение природы многого, лишенного единства, может служить основанием для критического осмысления более конкретного понятия материи, если ограничиваются рассмотрением ее как отвлеченной от формы, принципа организации, принципа единства, предела. Сам Платон вслед за пифагорейцами понимал истинное бытие как единство предела и беспредельного, единого и многого, формы и материи, как внутреннюю целесообразность. Последняя идея заимствуется также и от Сократа. Развитие этих диалектических воззрений мы находим у Аристотеля в понятии энтелехии.
Восьмое предположение рассматривает иное, не-единое, при абстрактном, безотносительном отрицании единого. Такое единое оказывается безотносительным, поэтому другое отрицаемой абстракции само есть абстракция – ничто. Подобно тому, как если единое относительно, определенно отрицается, то другое относительно, определенно полагается и есть нечто. “Если ничто из иного не есть одно, то все оно есть ничто, так что не может быть и многим”(165e). Такое иное не есть ни единое, ни многое “и даже не представляется ни единым, ни многим [...] потому, что иное нигде никаким образом не имеет никакого общения ни с чем из несуществующего и ничто из несуществующего не имеет никакого отношения ни к чему из иного; к тому же у несуществующего нет и частей”(166a). Поэтому ни иное не может познавать несуществующее единое, ни само оно не познается. Если единое не существует, то и иное не существует, и его нельзя мыслить ни как единое, ни как многое, “ни вообще как имеющее другие признаки”,” ни чем таким иное не может ни быть, ни казаться”(166b).
Далее делается общий вывод из рассмотрения предположений, основанных на отрицании единого: “Не правильно ли будет сказать в общем: если единое не существует, то ничего не существует? – Совершенно правильно”(166c).
Вспомним вывод, сделанный из рассмотрения предположений, основанных на утверждении единого: “Таким образом, если есть единое, то оно в то же время не есть единое ни по отношению к себе самому, ни по отношению к другому”(160b) (курив мой – И.Б.). То есть в положительной форме: единое есть и оно само и его другое и по отношению к себе, и по отношению к другому. Иначе, единое есть и единое, и многое само по себе и в отношении к многому. Или, единое и есть, и не есть и в отношении к себе, и в отношении к другому.
Теперь посмотрим на общий вывод из диалога, относящийся ко всем предположениям, основанным как на утверждении единого с выводами для него самого и для иного, так и на отрицании единого с выводами для него самого и для иного. “Выскажем же это утверждение, а также и то, что существует ли единое или не существует, и оно и иное, как оказывается, по отношению к самим себе и друг к другу безусловно суть и не суть, кажутся и не кажутся”(166c). Единое есть и не есть, существует и не существует, кажется и не кажется в отношении к себе и в отношении к другому, полагается ли оно или отрицается. То же можно сказать и про многое. Единое и иное (многое) суть лишь в отношении к самим себе и друг к другу. Единое и многое относительны. Безотносительное не существует по истине и не познается. Можно сделать более общий вывод: идея есть лишь в отношении к себе самой и “в то же время” к своему другому, к своей противоположности, причем это есть одно и то же отношение, которое есть основание единства противоположных моментов определенности этой идеи. Само это разрешение противоположностей в положительное единство не высказывается Платоном так отчетливо в этом диалоге, в отличие от диалога“Филеб”, но все движение содержания, рассмотрение диалектической природы идеи, на это указывает.
1. Секст Эмпирик. Против логиков. [5. Горгий] // Соч. в 2-х т.- М., 1975 – 1976. Т.1.- 1975.
2. Михайлова Э.Н.,Чанышев А.Н. Ионийская философия. Приложения.- М.,1966.
3. Аристотель. Соч. В 4-х т.- М., 1976 . Т.1.
4. Платон цитируется по изданию: Собр. соч. в 4-х т.- М., 1990 -1994.
5. Гегель Г.В.Ф. “Лекции по истории философии”.- Спб., 1993-
1994. Кн.вторая.- 1994.- С.156.
6. Кант И. Соч. В 6 т. – М.,1964-1966, Т.3, С.406.
7. Там же. С. 404.