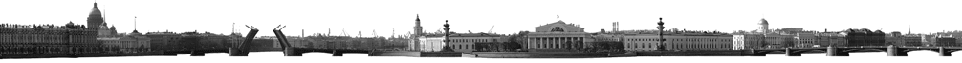Автобиографическое интервью Евгения Семеновича Линькова, данное 13 апреля 2013 года по случаю 75-летия со дня рождения // Линьков Е.С. Лекции разных лет по философии. Т. 2. СПб.: Умозрение, 2017. С.541-582.
Автобиографическое интервью Евгения Семеновича Линькова, данное 13 апреля 2013 года по случаю 75-летия со дня рождения // Линьков Е.С. Лекции разных лет по философии. Т. 2. СПб.: Умозрение, 2017. С.541-582.
Интервью брали: Владимир Макаров, Алексей Пестов, Игорь Родионов.
Владимир Макаров: Вот первый вопрос нашему юбиляру. Евгений Семёнович, насколько глубоко Вы знаете свою родословную? Кем были и чем занимались Ваши предки?
Евгений Семёнович Линьков: К сожалению, родословную я знаю очень коротко. Когда я родился, уже по линии отца дедушки и бабушки в живых не было, по линии матери – то же самое. Знаю, что они – из крестьянского сословия, и по линии матери, и по линии отца. Жили в разных местах. Мать родом вообще из лесного поселения, в лесу была целая деревня. Под Орлом начинается огромный лес, который тянется до Смоленска и уходит на Польшу. Потом там было партизанское движение. Предки матери жили там, а предки отца жили как раз в деревне на берегу Оки. Как и где они познакомились, я не знаю, об этом в семье не было разговоров. Вот и всё, то есть знания мои о предках очень ограничены.
В.М.: А отца Вы не расспрашивали?
Е.С.: Нет, как-то не приходилось. Я думаю, что за текущими заботами жизни было не до воспоминаний, откуда кто родом, кто были предки, кто были дед и бабушка у отца, у матери.
В.М.: А фотографии остались дедушек и бабушек?
Е.С.: Нет. Фотографии не могли остаться ещё по той простой причине, что первоначальный дом моих родителей полностью, дотла сгорел в Орловско-Курской битве. Где-то в 1942-43 году полдеревни сгорело под Орлом, это 5 километров от Орла всего лишь. Орёл стёрли с лица земли и окрестные деревни стёрли с лица земли, половину, по крайней мере. И немецкие войска поработали по сжиганию населённых пунктов, и советские – во время наступления против немцев. Это такая история Орловско-Курской дуги.
В.М.: А называется эта деревня?
Е.С.: Тайное, Володарского района Орловской области, в эпоху Тургенева и Толстого – Орловской губернии. По-моему, даже Липецк входил тогда в Орловскую губернию. Вот, если говорить кратко.
В.М.: А теперь несколько глубже. Как Вы полагаете, что в Вашем характере перешло по роду, а что было сформировано сознательным образом? Может быть, от родителей, раз нет более древнего поколения? Когда за плечами такой период жизни, можно уже сказать об этом.
Е.С.: Да, период жизни длительный и далеко не простой. Что от родителей перешло? Наверное, способность не унывать перед любыми тяготами жизни. терпение, выносливость, отсутствие нытья и отсутствие отчаяния. Это, пожалуй, самое главное. То, что это переносится всегда нелегко в жизни – это известно всем из индивидуального опыта. А что касается того, что я привнёс, наверное, это связано уже с образованием, самообразованием. То есть на основе образования и самообразования произошло формирование определённых взглядов на жизнь, на смысл жизни, на цель жизни, на то, что определяется волевым и разумным как раз отношением к этому, к реализации, к достижению этого. Одним словом, привнёс я более осознанно более образованную форму достижения цели в жизни. Это, пожалуй, всё, что я мог выработать в качестве индивидуальной особенности в отличие от того, что унаследовал от родителей. Вот так, если кратко.
В.М.: Я так плавно перейду ещё к одному вопросу. Каков был культурный фон Вашего детства и отрочества? Насколько советская система образования была благоприятной для развития задатков и способностей?
Е.С.: Надо учитывать, что моё поколение, по крайней мере, – это поколение военное и послевоенное. Культурный фон определялся тем, что мы были застигнуты войной с Германией. Это – предпосылка, условие, при котором формировалось, проходило наше детство. Когда советские и немецкие самолёты ночью вступали в схватку друг против друга над головами жителей Орла и окрестных деревень, это нужно было пережить. Это было на наших глазах. Одной из предпосылок был панический страх. Он дополнительно вызывался ещё и тем, что панически выли собаки во время этих потасовок советских и немецких самолётов в воздухе. Это была какая-то форма панического воя, от которого мурашки бегали по спине. Страх был смерти – сильный, но не шокирующий, а как бы потихоньку вписывавшийся в «нормальный» уклад и течение жизни. К такому страху привыкаешь. Первоначально испытываешь ужас, шок, а потом начинаешь постепенно привыкать. Во время налётов немецких и советских самолётов жители уходили в каменоломни на берегу Оки. Каменоломни эти – из кремневого белого камня. Этого камня было напичкано на 50-70-100 метров, так что никакие бомбы не могли эти каменоломни пробить и разрушить. Люди были там в безопасности. Там были целые пещеры как комнаты, которые уходили на 100-200 километров дальше от берега. Там люди спасались и в холод – там тепло зимой, плюсовая температура. Выживали там. Там перенесли и весь период немецкой оккупации этой территории, по которой немецкие войска прошли до Москвы, потом откатывались обратно. Это первый пункт. Второй пункт. Ну какие условия были для учёбы после войны? Не сразу было проведено радио в деревнях, не сразу был электрический свет. Почему? Потому что свет, который впервые получила в том числе и моя деревня под Орлом, был от местной электростанции, которую сами возводили, сами запускали, сами обслуживали и так далее. И радио так же проведено было. Но, тем не менее, это сыграло очень значительную роль. Почему? После керосиновой лампы со стеклом вдруг электрическое освещение в доме – это был великий шаг по условиям быта. Появилась совершенно другая обстановка для чтения книг, для слушания радио и так далее. Что я должен сказать по поводу радио? Радио советское в ту пору было совершенно необычным по сравнению с последующими десятилетиями существования и развития радио в СССР и после СССР. Почему? Потому что по радио передавались самые лучшие песни, очень много русских народных песен. Дальше, по радио передавались целиком все оперы: великие русские, итальянские, немецкие (Моцарта, Баха и прочих). Выступали ведущие певцы, очень много было драматических постановок. И мы ещё с дошкольного возраста, школьниками, в подростковый период, вечером собравшись в качестве такого небольшого местного общества у любого дома, потому что в каждом доме была радиотарелка, – как правило, она не выключалась с 6 часов утра и до 12-ти часов ночи, игрался гимн и только после этого выключалось радио, – слушали по радио всё, что передавалось, с замиранием духа. Поэтому первое знакомство с духовной культурой происходило через радио, оно было первым источником духовной культуры. Потом присоединились книги. Книги были в основном в школе. Школьная библиотека давала книги на дом. Где-то после седьмого класса, с четырнадцати лет я стал запоем читать книги. Притом брался за русских писателей, впервые изучил всех великих русских писателей, книги которых были в библиотеке, потом английских писателей (Байрона, Шекспира), немецких (Шиллера, Гёте). Это всё, конечно, имело свое влияние на духовное развитие. Пожалуй, вот так кратко если сказать. То есть условия были исключительно благоприятно-положительные для формирования и развития. Препятствий никаких не было.
В.М.: А сама система школьного образования?
Е.С.: Она была нормальная по требованиям, по системе. Уроки давались хорошо. Первая часть урока, как правило, шла на проверку домашнего задания, вторая половина урока использовалась для объяснения нового задания учителем. В этом отношении я никаких особых препятствий и изъянов не вижу.
В.М.: А пропорция естественных и гуманитарных наук?
Е.С.: Пропорция естественных и гуманитарных наук была совершенно нормальная, потому что всё стояло по своему значению на своём месте, то есть ничего превалирующего, придавливающего и забирающего время от других предметов не было. Пропорция была очень правильная. И набор предметов, кстати, был в школе очень хороший, ведь у нас преподавалась и общая психология, и логика была среди предметов, помимо всех видов математики, физики, химии (органической, неорганической). И даже астрономия была!
В.М.: И эти предметы давались всем? Я имею в виду, что все усваивали?
Е.С.: Да. То есть набор предметов был гораздо шире, чем теперь.
Алексей Пестов: А школа была у вас смешанная: мальчики и девочки?
Е.С.: Было по-разному в разных местах. В Орле часть школ были разделёнными в качестве эксперимента, хорошо это или плохо, что мальчики учатся отдельно, девочки – отдельно. Другая половина школ была смешанной. По Орловской области все школы были смешанными, потому что надо было с окрестных деревень в радиусе двадцати-тридцати километров собрать школьников в одну школу. Вот как. При школе было что-то типа общежития для недельного пребывания школьников, которые были из совсем уж далёких деревень (20 километров), которые не могли каждый день прибывать в школу и обратно добираться домой. Транспорта не было для школьников, естественно, никакого, всё своими ножками круглый год.
А.П.: То есть Вы тоже в смешанной школе в этой деревне учились?
Е.С.: В этой деревне я заканчивал школу в четыре класса. Это была ещё школа народного образования. Она была создана в 1904 году, эта кирпичная школа на 2 огромных класса плюс ещё учительские комнаты, в которых учителя проживали прямо при школах. В ней были высокие, под четыре метра, потолки -– известный тип. Вот в деревне в своей родной я и оканчивал эту школу в четыре класса. Потом, после четырёх классов, меня перевели уже для дальнейшего получения образования в Мезенскую среднюю школу. Мезенка – это примерно 2 километра от Орла, ну совсем уж край города. Вот там я и завершал уже 10 классов образования. Каждый день ходил туда и обратно 5 км в любую погоду: метель – не метель, мороз – не мороз, дождь – не дождь, всё равно.
В.М.: А как учились?
Е.С.: До седьмого класса был достаточно разболтанный, были и «тройки». Где-то с восьмого класса я уже учился серьёзно, потому что уже сформировалось, стало более зрелым сознание, что образование нужно. Большинство ребят и девчонок, которые вместе со мной учились, побросали уже учёбу, седьмой класс завершили и бросили. Осталось очень немного людей, которые шли до завершения десяти классов, буквально единицы.
А.П.: А склонности были больше гуманитарные или больше естественно-научные?
Е.С.: У меня все предметы шли легко, для меня непреодолимых предметов не было. Я даже ставил себе повышенные требования с восьмого класса. По математике, например, помимо выполнения домашних заданий я с удовольствием (дома, для себя) решал задачи, которые составляли пол-учебника и были помечены как особо трудные. То же самое по физике. Никакие предметы у меня трудности не вызывали, но больший интерес у меня был к гуманитарной сфере. Больше интересовала литература, история. С восьмого класса я читал уже книги запоем, буквально брал в школе книгу, два-три вечера – всё, книга прочитана. Нёс обратно, сдавал, брал новую и так далее. И где-то примерно в конце восьмого класса я взялся за Радищева и помимо его стихотворений, помимо его прозаической работы «Путешествие из Петербурга в Москву» прочитал его философский трактат о человеке. Трактат произвёл на меня очень сильное впечатление. Я его перечитал дважды. Прочитал сперва, он поразил меня, я его перечитал ещё раз, потом уже сдал в библиотеку и приступил к другим писателям. Но этот трактат я настолько продумал тогда, в восьмом классе, что после этого прочтения я его ни разу не перечитывал. Как выстроил Радищев два ряда доказательств за смерть души и за бессмертие души – они так и остались у меня в сознании до сих пор! Так что я его больше ни разу не перечитывал, и этого хватило мне. Но об искусстве я много читал, о художниках. Поскольку я сам занимался рисованием, изучал специальные книги, например, «Техника живописи старых мастеров» и так далее. Потом на определённом этапе все эти рисунки карандашом, маслом и так далее, осознав, что они не представляют собой ничего оригинального, а есть подражание какому-то из художников и не больше, я уничтожил. Уничтожил всё, что было написано, распростился с не моим призванием.
А.П.: А в семье кто-то рисовал?
Е.С.: Нет, никто.
А.П.: Просто ощутили в себе такую потребность?
Е.С.: Да. Я пейзажей много рисовал, особенно берега Оки, они красивые очень. То правый, то левый берег горой возвышается над водной гладью. Берег, как правило, хорошо зарос ивняком (это прут, из которого корзины плетут). Красивые берега, красивые извилины, красивые склоны каменных гор справа и слева над Окой. Там природа действительно красивая, такая величественно-умиротворяющая. Пожалуй, хватит.
Игорь Родионов: Евгений Семёнович, ещё уточнение маленькое. Вы говорили, что с седьмого или восьмого класса читать начали плотно. Кто Вас привёл к книге? Откуда потребность такая?
Е.С.: Да просто-напросто начал брать книги в библиотеке, читать один роман, другой. Натыкался на разные романы. Интерес был просто познакомиться с таким-то автором, о чём он излагает. Чисто внутренняя потребность была, которую я даже не могу объяснить, откуда она взялась. Так, проснулся интерес. Вечером послушал радио – разошлись. Пришёл домой – вроде заняться нечем, ещё спать не хочется, надо что-то почитать. Мне повезло. В наше время в качестве учебной литературы была такая толстенная книга, наверное, за тысячу страниц с лишним – «Хрестоматия зарубежной литературы». Там были практически все великие зарубежные авторы: Бальзак, Чарльз Диккенс, Шекспир, Шиллер, Гёте и так далее, вплоть до поэтов и писателей, которые уже были связаны с симпатиями к социализму. Эта хрестоматия, как правило, не давала полных работ. Из Шекспира, может быть, был «Гамлет», небольшой по объёму, другие драмы – уже только кусочки. Но, по крайне мере, знакомство с автором давала эта хрестоматия. Этого было достаточно, чтобы дать духовную затравку. А раз это представляет интерес, тогда нужно взять целую работу. И я брал в библиотеке уже целую работу, читал её, вот и всё. Это была просто потребность что-то прочитать, что-то продумать, что-то изображённое в романе, в драме увидеть и так далее.
В.М. А что собой представлял учитель этого времени?
Е.С.: Учителя были нормальные все, у меня не было никаких пристрастий со стороны учителей, никаких выделений кого-либо. Наоборот, были некоторые казусы. Почему? Потому что мой старший брат Сергей, 1929 года рождения, уже покойный, учился передо мной. Понятно, на 9 лет впереди. Война попутала всё, может быть, там интервал меньше был. Может быть, лет шесть разделяло его учёбу от моей учёбы. Он всё время в качестве ученика школы дразнил учительницу истории, которая была крива на один глаз. Такая была у неё беда. Он её всё время дразнил как кривую. Это, разумеется, не делает ему чести. Он её задел за живое и оскорбил и обидел этим передразниванием настолько, что, когда я пришёл учиться, она примерно полгода не ставила мне «пятёрки» по истории, обижаясь на поведение моего брата, который как раз обидел её. И только где-то через полгода начала ставить «пятёрки». Литературу я очень любил. С удовольствием отвечал уроки по истории, по литературе. Потом где-то с конца восьмого класса директор, который заботился о школе, перебрав всех возможных претендентов на медаль, остановил свой взгляд на мне и начал склонять меня к тому, чтобы я заканчивал школу на медаль. Я очень восстал против этого, потому что мне казалось чем-то нехорошим и унизительным специально, по заданию получать медаль. Директору в кабинете, куда он пригласил меня один на один, я сказал, что я не хочу никакой медали, я хочу хороших, твёрдых знаний по каждому предмету, но не медаль за обучение. Он объяснял мне преимущества медали для поступления в вуз, я категорически не принял ничего, стоял на своём. И вот эта обработка, натиск директора школы, склонение меня к медали длилось, наверное, год или полтора. В конце концов во время последних бесед я сказал: «Я не соглашусь ни на что. Если Вы будете насильно меня заставлять идти на медаль, я всё равно один или два предмета сдам на «четвёрку»». Тогда директор остановил свой натиск, примерно в десятом классе он меня уже не трогал, но за то, что я не пошёл навстречу, мне вместо двух «четвёрок» добавили ещё одну «четвёрку» во время выпускных экзаменов за среднюю школу, и всё! По-моему, по физике из «пятёрки» сделали «четвёрку». Когда учитель приходил на прощальный вечер с выпускниками, он просил прощения за то, что его заставили поставить «четвёрку» вместо «пятёрки» по физике. А больше недоразумений не было.
А.П.: Евгений Семёнович, а родители чем занимались, Вы не сказали?
Е.С.: У нас колхоз был, работали в колхозе. Мать не работала, потому что детей было много. Семья большая была: старший брат Василий, второй брат Михаил, третий брат Сергей, потом умерший Виктор, потом я, потом за мной Виктор, ещё сёстры Люба и Лида – восемь человек.
А.П. А кем отец в колхозе работал?
Е.С.: Он плотничал, по камню работал, печник хороший был, то есть мастеровой был мужик. Садовод, дома рубил прекрасно, печи клал любые, то есть мужик был с руками на месте.
А.П.: А сыновей своих приобщал к этому?
Е.С.: Специально не приобщал. Я вместе с ним в 16 лет делал всё по своей потребности, по своей склонности. Где-то его просят срубить дом – у него напарники были, ну и я вместе с ним в летние каникулы рубил буквально всё: и подоконники из дуба, и всё остальное, – то есть плотничал наряду с отцом. Было всё.
В.М.: В связи с чем открывается интерес к занятиям философией? Что на этот выбор повлияло больше всего?
Е.С.: Этот вопрос трудный, но я кратко его изложу. Дело в том, что первоначально я не собирался поступать на философский факультет вообще. Я сперва собирался в Институт им. И. Е. Репина – на отделение живописи, а когда уничтожил уже свои творения подражательные, я не оставил ещё этого замысла, а думал, что займусь, по крайней мере, историей и теорией искусства. Даже приехал в репинский институт после школы, прожил около месяца перед сдачей первого экзамена с выпускниками – художниками, архитекторами и так далее, которые ждали распределения. Мы жили в одном спортивном помещении при институте, месяц я участвовал во всех спорах «великих» художников, уже завершивших образование. Эти споры дали мне определённый результат, который сказался на дальнейшем моём поведении. Я сдал первые два вступительных экзамена, набрал десять баллов по двум предметам, по-моему, сочинение первым шло, второй я историю, кажется, сдавал, и после этого пришёл в приёмную комиссию, забрал документы обратно и уехал из Ленинграда домой.
А.П.: Почему?
Е.С.: Потому что за период месячных споров с выпускниками я пришёл к выводу, что в спорах мне не хватает не знания именно искусства – я подготовлен был хорошо по истории русского искусства, живописи, архитектуры, скульптуры, это всё я изучил по книгам, и подготовка через библиотечные книги у меня была достаточно серьёзная, то есть я не уступал в спорах выпускникам по знанию художников. Я помню, отстаивал в полемике работу И. Н. Крамского «Христос в пустыне» как великую форму живописного поступка художника, а противники отстаивали что-то противоположное. В общем, споры привели к тому, что я осознал, что для того чтобы понимать искусство, в том числе и живопись, картину художника и так далее, одного знания по книгам истории искусства недостаточно, что нужно к этому иметь ещё кое-что дополнительное в качестве знания, а именно этим знанием оказалась философия, то есть эстетика. Вот тогда, когда я пришёл в спорах к выводу, что для настоящего понимания искусства, а следовательно, и работы в качестве теоретика и историка искусства нужно ещё основательно знать эстетику, вот это и заставило забрать документы, потому что репинский институт не мог этого дать. И я уехал с твёрдым намерением поступать на философский факультет, где как раз заниматься эстетикой и настоящей теорией искусства на основании эстетики. На следующий год приехал и поступил на философский факультет. Всё.
А.П. А почему Вы были уверены, что репинский институт не даст понимания эстетики?
Е.С.: Я же спорил с ребятами и расспросил их обо всём, чему обучают, что преподают – это я получил полностью. Я знал через разговоры со всеми выпускниками, что там не даётся никакая серьёзная эстетика.
А.П.: Почему Питер, почему не Москва? Москва ближе к Орлу!
Е.С.: Москва рядышком, чего там – каких-то 350 км?! Но Москва меня удручала чем? Чисто казённой формой поведения москвичей. Дело в том, что в Москве жили родственники и родные моего отца, родной брат. В Москве с детства я часто был, наблюдал отношения москвичей в семье у родственников, на улице, куда я выходил гулять, и Москва мне совершенно не нравилась как казённый город. После Орла это был контраст казёнщины, то есть слова лишнего не скажи, так не сядь, так не пройди, так не остановись и так далее. Вот эта казённая форма меня оттолкнула от Москвы в качестве места обучения, и я уехал в Ленинград. Потом с Ленинградом был ещё второй момент, который повлиял, может, даже больше, чем первый. Изучая историю русского искусства, прежде всего архитектуры, Ленинград я, конечно, изучал основательно по книгам. И когда я приехал в Ленинград, даже в репинский институт, я бродил по Ленинграду с ощущением, что я живу не в ХХ, а в ХIX веке. Достоевский, Гоголь, «нос» на Невском проспекте своё дело сделали и я ходил, будто в туманном состоянии, что я нахожусь в ХIX веке, только мешают другие транспортные средства – троллейбусы, трамваи и так далее, которых не было в ХIX веке, и не хватает ломовых извозчиков, дворников, и всё. Может быть, ещё и это сказалось. В общем, я отказался от Москвы и приехал в Ленинград.
В.М.: Не говорит ли это о том, что Вам ближе ХIX век, а ХХ – не Ваше время?
Е.С.: Несомненно. ХIX век намного ближе мне, потому что с ХIX веком связан высший взлёт искусства России, взлёт русского духа. Пока ХIX век не превзойдён, особенно в искусстве. Но, я думаю, это судьба не только России, это судьба всех стран мира, которые захвачены в определённый процесс упадка эксплуататорских систем. Они идут к смерти с необходимостью.
Игорь Родионов: А о причинах этого упадка Вы задумывались?
Е.С.: Причина упадка простая – развитие природы духа человека до его периферийной крайности. Вот он идёт к этой периферии, на которой он остановится, свернётся как существовавший дух, и вместо него выступит другой способ духа. Вот и всё. Обратите внимание, сейчас весь мир очень активно идёт к обострённой форме индивидуализма, а индивидуализм – это и есть периферия духа. Это не его центр, это не его начало, это его конец – когда уходит на край и достигает края, а дальше, кажется, бездна. Но бездны нет, потому что мы живём в бесконечности пространства и времени. А край духа есть. Это говорит о том, что мы идём пока по пути разбрасывания камней в развитии духа. Подойдём к краю – начнётся период собирать камни, и будет возрождение нового способа духа. Притом, обратите внимание, это не так, что один дух уйдёт, а другой вместо него придёт ему на смену, это идёт в одном и том же движении – и умирание одного способа духа, и его рождение. Поэтому сейчас было бы очень примитивно и глупо видеть только смерть всего. Смерть эксплуататорских политических и экономических режимов не означает смерть человеческого общества вообще и смерть государства. Это означает только смерть определённого типа. Это нельзя путать. Тут не отделить положительное и отрицательное так, чтобы они стояли друг возле друга, не смешиваясь друг с другом и так далее. Это чепуха, это как раз рассудок, который хочет всегда установить жёсткие перегородки, жёсткие разграничения, жёсткие границы, жёсткие разграничительные линии. Этого не существует в реальности, никогда не бывает, потому что процесс умирания несостоятельного способа и рождения нового – единый процесс. В умирании одновременно формируется рождение нового способа. Поэтому все бредни о конце света входят в то представление, когда между умиранием определённой формации и рождением новой якобы существует перерыв, разделённость, определённое пустое пространство и так далее. Понятно это? Вот и всё. Так что ничего мрачного нет, ничего пророческого для гибели человеческого рода нет. Погибнут капиталистические системы – так они и должны погибнуть! Это не ново. Любые формации конечны по бытию, имеют начало, имеют конец. Иначе давайте плакать, что погибли Римская империя и рабовладельческий строй. Рабовладельческого строя в том виде, в котором он первоначально исторически был, уже нигде не существует. Если даже капитализм мы сравниваем с рабовладельческой формацией как завершение её, то это всё равно уже другая форма рабства, по форме и по содержанию другая. Понятно? Вот и всё. Так что будем приветствовать зарю нового духа через процесс всеобщего развития.
В.М.: Когда и в связи с чем сформировался основной интерес к классической немецкой философии? Какие трудности в целом пришлось испытать при её освоении?
Е.С.: Это целиком падает на студенческий период, это понятно. Это уже студенческая скамья, пятилетний процесс студенчества. Чтобы не было прерывности, скажу одно. Когда я пришёл на факультет с интересом заниматься эстетикой, первый год я этим и занимался, думая, что буду заниматься эстетикой усиленно, для того чтобы заниматься историей и теорией искусства. Но спустя год обучения на факультете я начал больше ориентироваться среди предметов, которые преподаются на факультете, и пришёл к следующему выводу, что, оказывается, для того чтобы серьёзно заниматься эстетикой и изучать её, нужно ещё предварительно заниматься философией (а потом уже эстетикой). Это был новый интересный поворот. А философией заниматься – это значит чем? Встала проблема, заниматься современной философией, значит, диалектическим и историческим материализмом, с которым я уже начинал знакомиться, или историей философии. Как ни соотноси, как ни ставь проблему отношения диалектического и исторического материализма и истории философии, всё равно первоначально вставало в сознании, что если диалектический и исторический материализм и есть философия, то они обязаны своим существованием истории философии. Понятно? Вывод я получил. А когда получил этот вывод, я уже укоренился, что нужно заниматься перво-наперво историей философии, а потом уже заниматься диалектическим и историческим материализмом как результатом истории философии. Занявшись в этом направлении, я прослушал курс греческой философии на первом курсе, курс философии Нового времени – на втором, а на третьем курсе пришёл к тому, что нам из немецкой философии – ведь её не читалось как курса – читались одна или две лекции по Канту и, по-моему, три или пять лекций по Гегелю как источнику марксизма, одна лекция о Фейербахе, и всё. Это был третий, такой обрезанный, куцый, несуразный курс – ни Фихте, ни Шеллинга нет, всё выброшено.
В.М.: А кто читал?
Е.С.: Да разные читали, одного даже преподавателя не было. И тогда, ознакомившись уже с греческой философией и философией Нового времени, средних веков, частично с немецкой философией, я пришёл к выводу, что нужно заняться именно тем, что не преподаётся и литературы по чему нет, – немецкой философией. Такую занял позицию, а потом уже пошёл в этом направлении. Так что где-то на третьем курсе я уже, проконспектировав первые источники по греческой философии (Платона, Аристотеля), по Новому времени (Лейбница), дошёл до немецкой философии, потом на ней и осел. Вот и всё.
А.П. То есть сначала не было понимания, что там – истина?
Е.С.: Нет.
А.П.: Возбуждало, что это неисследованная мысль?
Е.С.: Совершенно верно. Меня интересовало то, что это малоисследованный период, работ нет совсем. Если есть работы, то они совершенно неудовлетворительные.
В.М. Познакомившись с источником, и пошли бы дальше – через Фейербаха к Марксу, Энгельсу и марксистам-ленинцам?! Но этого же не произошло.
Е.С.: Не произошло – по той простой причине, что я обнаружил, что немецкая философия требует совершенно самостоятельного изучения, обдумывания и совершенно самостоятельной разработки. Поэтому я и остановился на этом периоде, не перешагивая никуда. Что там удалось Марксу, Энгельсу, Ленину – меня в это время даже не интересовало. Меня интересовала немецкая философия, потому что ясно было, что разработана логика, притом логика необычная. Я ещё в школе имел знакомство с логикой. Что там было? Понятие, суждение, умозаключение, доказательство – всё. А тут логика какая-то интересная: бытие, сущность. Что это за логика? Ведь даже до сих пор, между прочим, об этой особенности логики Гегеля нет ни слова. А с чего это вдруг такая логика странная? Она не аристотелевская, не послегегелевская логика. Сколько логик – Милля, позитивных логик и прочее, их уйма! И тем не менее гегелевская логика радикально отлична от них. Логика бытия, логика сущности – да причём тут логика? И почему это называется логикой-то? Какое отношение к логике имеют бытие, сущность и прочее? Вот и всё. Я просто привёл пример, что значит форма. Без ответа – многие проблемы, в отношении даже первого мышления (то, что мы сейчас наметили). Пусть объяснит кто-нибудь эту особенность логики Гегеля и имеет ли она право называться логикой. Или, наоборот, остальные логики не имеют право называться логикой?!
А.П.: А ХIX век Вам читали – то, что было после Фейербаха, позитивизм?
Е.С.: М. А. Киссель читал как раз буржуазную философию. Но у меня буржуазная философия не вызвала никакого интереса, потому что я не увидел ничего в качестве оригинального по сравнению с теми историческими формами, формами историко-философского познания, с которыми я ознакомился. Я увидел что? Модификации миновавших философских учений, притом не в классической форме движения, а в изуродованной форме – попытку возродить миновавшие формы, но уже в уродливом виде. Поэтому у меня послегегелевская философия не вызвала никакого интереса, я ей много занимался после аспирантуры. Для этого достаточно указать на одну книгу – Т. И. Хилла «Современные теории познания», в которой изложено 160 учений, включая позитивизм, Витгенштейна, Карнапа, Рассела, Сантаяны и прочих. И что толку? Эта сводная книга ещё раз подтверждает, что ничего там оригинального нет, что это упадок философской мысли.
А.П.: А какие это были годы? Когда Вы поступили?
Е.С.: В 1961 году поступил, в 1966 году завершил студенческую скамью и сразу поступил в аспирантуру. Три года учился в аспирантуре.
В.М.: Такой вопрос. Не зародилось ли тогда же, на студенческой скамье, какое-то двойственное состояние? Кругом господство официальной точки зрения. Профессура, студенты учат, сдают экзамены, статьи в журнале «Вопросы философии» – кругом процветают разновидности марксизма, материализма. И тут вдруг интерес к немецкому идеализму, внутренний, глубокий и так далее. Приходилось жить в обычной обстановке – семинары, конференции. Официальная точка зрения, всё остальное не приветствуется вообще. Не было разлада между внутренним глубоким интересом к определённой исторической эпохе, представителям немецкого идеализма как, скажем, высшей точке зрения в истории философии и современным состоянием дел в философии?
Е.С.: Нет. В реальности это были совершенно другие духовные силы в сфере мысли. Дело вот в чём. Диалектический и исторический материализм влачил своё существование больше по положениям, сформулированным Лениным. Вот Ленин сказал, что материализм должен быть воинствующим – и пожалуйста, что Маркс дал впервые научную теорию истории – вот то, что называется историческим материализмом. Это, я думаю, шло больше под этими определениями как под обязательной формой давления. Это должно было разрабатываться, потому что государство просто не потерпело бы другой формы деятельности. Ну и разрабатывался в этом смысле диамат и истмат; как Деборин заложил его основы, так он и остался диаматом в неизменном виде вплоть до всех последних учебников при СССР. Истмат – то же самое. Эти две ветви были официально объявлены официальной формой марксистской философии, а на самом-то деле гуща преподавателей и публикаций застряла в своеобразной форме позитивизма при марксизме в СССР. Это совсем другая окраска, другое содержание. Притом позитивизм захватил всё, он даже проник в сферу эстетики. Представляете, что такое позитивистская эстетика?! И тем не менее разрабатывалась именно позитивистская эстетика. Вот где симптом краха философии. Полного краха! Потому что позитивизм и эстетика вообще несовместимы друг с другом. И тем не менее так на самом деле было, и эстетики писались в этом направлении. А с другой стороны, немецкая философия тянула к себе разработкой метода, разработкой процесса развития. Вот то главное, что подкупало. И плевал тут всякий, кто занимался этим, материализм это или идеализм! Больше того, встала проблема: если материализм такой истинный, почему он не разработал никакую диалектику за все три тысячи лет?! Нет материалистической диалектики! Ну нет её.
В.М.: А как же четыре тома «Материалистической диалектики» – она так и называлась?
Е.С.: А толку? Название-то есть, а диалектики-то нет! Вот в чём дело. Там употреблено слово «диалектика», но вместо изложения, изображения, описания диалектики там написано что угодно – только никакого отношения к диалектике это не имеет. Ведь если говорить честно, объективно и беспристрастно, обратите внимание, столько кричали о диалектическом методе, о методе Маркса – и где же этот метод?! У Маркса этот метод не изложен нигде. Назовите мне работу, где изложен метод Маркса – её нет. Хорошо, Маркс не изложил. Может быть, изложили те, которые кричали о диалектическом методе Маркса? Кого мы берём? Перво-наперво Ленина? А что Ленин нам сказал? «Нельзя понять «Капитал» Маркса, не проработав всей «Науки логики» Гегеля» – колоссально! И всё? А метод-то где Маркса? Опять неизвестно. Понятно? Я вообще удивляюсь, это какая-то форма исторического фокусничества, потому что утверждается, что якобы есть что-то, чего на самом деле нет! Утверждается, что есть диалектический метод, а его нет, нигде не изложен. Утверждается, что есть материалистический, марксистский метод, а он опять нигде не изложен. Как быть?
В.М.: Точно так же, как утверждается, что есть развитой социализм, а его на самом деле нет – ни развитого, никакого!
Е.С.: Совершенно верно, но тут ещё политически более-менее объяснимо. Почему? Вдумайтесь в саму проблему. Отдельное государство за историю человеческого рода берёт себе за правило отказаться от эксплуататорских основ, не быть государством-эксплуататором наёмного труда в пользу хищников, эксплуатирующих этот труд и получающих прибыль, наживу для себя. Хорошо. Но ведь это же первая попытка. Это государство, объявляя враждебными все интересы буржуазных государств, естественно, вызвало на себя всю ненависть, всю войну всех стран капитала земного шара. Обратите внимание, вызвало к себе вражду, войну, потому что, если этим будут заражаться народы других стран капитала, что же будет с капиталом?! Он должен будет сдохнуть?! Значит, нужно истребить социализм и СССР, неважно, хороший он или плохой, государственный или негосударственный, частный. Эти определения не имеют значения. Главное, что это антиэксплуататорское государство, и оно должно быть уничтожено, потому что это дурной пример для капиталистических государств, которые должны умереть. Обратите внимание, какая проблема поставлена. Кто должен жить: эксплуататорский режим или антиэксплуататорский? Антиэксплуататорский – это в любом случае дорога к самоопределению народа. Народ сам должен определить свою собственную жизнь, свой способ жизни, а не кто-то будет ему диктовать, навязывать, подчинять его волю и интересы! Вот и всё. В этой схватке за 73 года антиэксплуататорское государство СССР потерпело поражение. Не выдержало государство войны против всех стран капитала и погибло. Не будем сейчас входить в детали, кто участвовал в погибели этого государства. Дело в другом. Эксплуататорский строй – он вечный? Он продлится ещё неопределённо длительное время? Капиталистические государства просуществуют ещё хотя бы 100 лет? Да нет, они обречены. Потому что обратите внимание на историю. Рабовладельческая формация была? Мощная, воинственно настроенная в лице Римской империи, так организованной, что на весь мир наводила ужас! – Погибла, нет её. Феодальная формация прожила меньший период по времени и тоже погибла – и европейский феодализм, и русский феодализм со всеми их национальными особенностями. Сейчас 200 лет с лишним капиталистической формации. Всего-то 200 лет! Это не рабовладельческая формация, которая насчитывала несколько тысяч лет. То есть интервал-то сужается. Рабовладельческая формация самая длинная, феодальный период намного короче, что там – VII век после Рождества Христова и до XVIII века. А капиталистическая формация всего за 200 лет перевалила и уже погибает?! Это интересный процесс! Сама система эксплуатации, эксплуататорского режима идёт к смерти – исторически. А ведь что-то должно быть после этой системы. Не может быть, чтобы никакой системы общественной жизни в качестве государства по названию не было. Я думаю, что перспектива у нас одна. Если учитывать всеобщий исторический процесс развития и брать экономический момент, начинается наша история бренная и грешная, наверное, несколько миллионов лет назад, ведь люди жили первобытно-общинным укладом жизни, – наверное, что-то вроде первобытно-общинного уклада и должно выступить взамен эксплуататорским режимам (рабовладельческим, феодальным, буржуазным). Вот и всё. Единственное, что мы можем сказать в качестве главного направления. Я думаю, этого хватит.
В.М.: Под воздействием чего сформировалась собственная философская позиция? Можно ли выделить основные этапы становления собственной философской точки зрения и определить её понятие?
Е.С.: Под воздействием чего – имеется в виду извне?
В.М.: Не только извне, но и изнутри тоже.
Е.С.: А изнутри – тут только один ответ. Он очень простой и краткий. А под воздействием чего можно входить в суть истории философского познания, всей истории?
В.М. Входить в суть истории философии?
Е.С.: Да. А раз пошло – ты там и будешь.
В.М.: Многие же там и остались. Как-то вошли – там и живут. У Вас же судьба другая. Что позволило не утонуть, не остаться там, не ограничиться историко-философским интересом? Были бы блестящим специалистом и экспертом по классической немецкой философии?! Но этого же не случилось!
Е.С.: Я думаю, вот это вхождение туда, пребывание там, «оставание» там и так далее – оно в качестве определения от лукавого. Почему? Потому что вот мы добираемся до сущности истории философского познания, а ещё лучше – до понятия. Давайте перейдём в категориальные определения. Есть бытие истории философского познания, есть сущность истории философского познания, есть понятие истории философского познания. Если понятие – действительно понятие, а не у нас только в голове как какое-то искажённое отражение, тогда это понятие неотделимо от самой реальности. Значит, мы удерживанием понятие истории философского познания, раз, и саму реальность истории философского познания, два, во всех как раз учениях, во всех их особенных формах. Великолепно! Вот мы на этом остановились. К чему мы подошли? Практически к идее философского познания. И мы не можем ни войти в неё, ни выйти из неё никуда, мы только можем быть в пределах её, потому что она не ограничена какой-то локальностью, она охватывает все исторические формы философского познания, и одновременно все эти исторические формы являются базисом для дальнейшего движения вперёд. Тут больше другого выхода нет.
В.М.: Вот, если можно, с этого момента поподробнее, полушутя. Попали мы в идею философского познания как единство её понятия и реальности. Это какое-то пребывание, какой-то процесс пребывания или развитие, и оно с необходимостью может быть развитием в ней самой?
Е.С.: А тут ведь невозможно иначе, потому что как только ты вошёл в идею философского познания, само пребывание в идее невозможно в качестве чего-то спящего, убаюканного, остановившегося. Потому что что такое быть в философской идее? Это значит быть постоянно действующим разумно в сфере предмета, содержания и формы философской идеи. Вот и всё. То есть мы вынуждены быть действующими. Какую бы особенную проблему мы ни поднимали после этого, она вся определена уже как раз общим определением, именно всеобщим. Само определение идеи является здесь главным, определяющим всё остальное, чем бы мы ни занимались. Обдумываем вот этот момент – всё равно это в пределах философской идеи. Мучаемся над решением определённого момента – всё равно в пределах философской идеи. Тут никуда не уйти. Это непрерывный процесс деятельности, потому что это сфера всеобщего. Если бы она была ограниченной сферой, там бы были рамки, там тесно, узко. А тут нет границ. Тут, с одной стороны, беспредельность, с другой стороны, беспредельность истинная, то есть имеющая меру и так далее – все свои основные определения. Вот примерно так, если сказать главные пункты.
В.М.: Мы можем в качестве примера индивида, который пребывал в идее философии и показал нам ступени какого-то развития внутри этой позиции, привести Гегеля, это гегелевская точка зрения.
Е.С.: Да.
В.М.: Есть ранний Гегель, есть Гегель «Феноменологии духа», есть Гегель «Энциклопедии философских наук», и по его произведениям можно проследить путь этого человека, разработку этих вопросов. Опыт этого человека Вам был известен?
Е.С.: Конечно.
В.М.: А что можно было бы сказать о своём собственном пути в этой идее?
Е.С.: О своём собственном пути труднее всего говорить.
В.М.: Надеюсь, что Вы к своему возрасту доросли до этого, и мы дорастём.
Е.С.: Автору лучше бы вообще об этом не говорить.
В.М.: И всё-таки? Когда начнутся споры Ваших учеников и последователей по этому поводу, доброжелателей и недоброжелателей, это будет уже какая-то версия, какой-то вариант.
Е.С.: Дело же не в этом. Главное – развивать дело.
В.М.: Я попробую по-другому сформулировать.
Е.С.: Как раз ставка на разные позиции, отношения к одному и тому же интересна, но не имеет никакого значения. Почему? Потому что всегда есть часть людей, участвующих в определённом деле, которые действуют ради сути, и делают это искренне, притом в любой сфере. Есть часть людей, которые действуют не ради сути, а ради других интересов. Если это так, какой смысл на них обращать внимание? Они действуют не ради сути, а ради привходящего, они будут со всей энергией на этом стоять, потому что какой-то индивидуальный интерес их с этим связывает. Но результат-то какой для общего дела? Никакого. Они же не содействуют ему. Они ему не помогают, они, наоборот, ему препятствуют. Ну хорошо. Заклеймим мы их как ретроградов, как препятствующих развитию, движению вперёд, движению к истине – ну и что толку-то от этого? Поэтому, ещё раз повторяю, мне кажется, это не главное. Главное – это всё-таки занятие самим делом.
В.М.: Вот как раз об этом я хотел бы уточнить вопрос. Если и возникает вопрос, связанный с отличием кого-то от кого-то или чего-то от чего-то, то как раз не из праздного любопытства или желания порефлектировать на эту тему, а как раз с точки зрения этого дела. Так вот, переформулирую вопрос, может быть, поточнее будет, попонятнее и для ответа, и для нас для уяснения. Я полагаю, что у Гегеля мы можем найти разработанное им понятие идеи философского познания так, как оно исторически выступило в его лице. Что нам можно было бы сказать, может быть, кратко, о Вашем понятии идеи философского познания в рамках того единого и общего дела, которым занимались от Парменида и до Евгения Семёновича? Не для того, чтобы выявить какие-то внешние различия.
Е.С.: Всё равно мне не совсем ясен вопрос. И тебе, думаю, не ясен он.
В.М.: Мы можем оставить в стороне индивидуальные ступени внутреннего роста в рамках понимания того, что такое философия, к которому Вы пришли или на студенческой скамье, или будучи уже аспирантом, или работая над книгой, в семидесятые годы, когда было время лет пять позаниматься ещё раз историко-философскими учениями, в восьмидесятые годы, когда уже появились потребность и опыт изложить свою точку зрения по ряду каких-то ключевых философских тем. Что мы можем зафиксировать, если мы не получим какого-то, хотя бы короткого, ответа? То, как Гегель разработал понятие идеи философского познания, как это мы находим у него на немецком языке, в его текстах на правильно понятом русском языке – вот этим и можно довольствоваться за период 200 лет после Гегеля? Или что-то произошло, в том числе на русской почве, когда можно говорить не только о каком-то знакомстве с Гегелем, понимании его точки зрения, но и о каком-то развитии или продолжении того же самого дела? Если оно не стоит на месте, оно не может быть застывшим, оно истинно бесконечно, и кто попадает в эту ситуацию, он занимается этим делом, берёт на себя всю ответственность и серьёзность этого дела, правильно?
Е.С.: Есть один пункт, который кажется совершенно второстепенным и незначительным. Вот смотрите. Есть стихийный процесс разработки философского познания, и есть рефлексия об этом. Беру исторический пример. Вот Кант разрабатывает свою задачу критики способности познания. Он действительно поставил ту проблему, которая не ставилась до него – исследовать способность познания, а потом уже познавать что бы то ни было. Хорошо. Кант поставил эту проблему, решает её, разрабатывает по-своему. Что тут получил он в качестве результата? Три «Критики». После него выступает Фихте. Обратите внимание, ту же самую проблему, которую поставил перед собой Кант, Фихте пытается решить самостоятельно, раз. Во-вторых, присутствует второй момент – рефлексия на кантовскую форму проблемы и решения. И смотрите, что получается. По какому моменту считать движение Фихте, работу Фихте, деятельность Фихте движением вперёд от Канта? По первому? По второму? По двум? По стихийной разработке проблемы – вывести всё из абсолютного Я? Или по рефлексии, по осмыслению кантовской проблемы?
В.М.: По первому, по второму и по третьему! Когда выходишь за рамки и кантовской, и фихтевской точки зрения, только тогда становится понятным настоящее отношение.
А.П.: Володя, ты задаешь Евгению Семёновичу вопрос, на который он не сможет ответить.
В.М.: Нет таких вопросов.
А.П.: Рефлексия заблуждается насчёт себя самой.
Е.С.: Вот в том-то и дело, что рефлексия сама по себе здесь не даёт положительного результата как бы, но на самом деле в себе самой она содержит положительный результат. Почему? Потому что это же ведь осознание того, что достигнуто, что сделано. Вот смотрите. Если человек понял, что такое логика Гегеля, он понял всего лишь, не написал ни строчки, не изложил ничего – он имеет определённый результат или нет? – Имеет, конечно. Поэтому, Володя, вопрос твой, как я сказал, – от лукавого. Как ты ни варьируй формулировку в качестве проблемы, она остаётся от лукавого. «Что тебе удалось сделать в идее философского познания?» – Володя, ты задаёшь вопрос на рефлексию. А если мы берём первый пункт, исходный, а именно вот учение Канта, вот учение Фихте, вот учение Шеллинга, вот учение Гегеля, моя форма изложения и трактовки, а трактовка – это способ понимания, она что-нибудь даёт по сравнению с оригиналом? [Да.] – Значит, слава богу, что-то удалось. Если перебирать по содержанию – там слишком много по содержанию и слишком оно пёстрое! Возьмите в качестве содержания хотя бы становление или любой другой момент, например, свободу и необходимость и так далее – всё равно это уже определённая форма трактовки, и сразу возникает определённое отношение: что у предшественников, что я даю в этой трактовке? То есть тут мы уходим в пестроту содержания. Если от содержания отвлекаемся, мы ничего не можем сказать, что удалось, что не удалось. Если ставить вопрос серьёзно, что удалось, тогда нужно делать обзор содержания, а пунктов слишком много, сами знаете. Поэтому затрудняюсь я тут.
А.П.: А правильно я понял Ваш ответ, что задачу дать понятие философии Линькова надо ставить не Линькову в первую очередь, не его спрашивать об этом?
Е.С.: Совершенно верно. Я и сказал об этом, потому что эта рефлексия должна быть со стороны. Володя, понимаешь, в чём дело. Ты побуждаешь меня выйти из себя самого, стать себе на плечи и посмотреть: «Ну каков я?»
В.М.: Если бы речь была просто как об индивиде, может быть. А когда речь идёт о деле философии?
Е.С.: Всё равно. Ты же ведь заставляешь в сфере философии стать над самим собой!
В.М.: А как же? Потому что всё равно в особенной форме, в индивидуальной форме это дело прокладывает себе дорогу. Можно отвлечься от каких-то исторических особенностей, индивидуальных, национальных… Тогда мы остаёмся в некоторой неопределённости. Есть гегелевская форма развития этого содержания, а есть линьковская форма.
Е.С.: Ну и что?
А.П.: Но не дело Линькова её определять.
Е.С.: Да.
В.М.: Ну конечно, ну конечно… Мы знаем, как Шеллинг отнёсся к гегелевской точке зрения. Именно потому, что он не справился с тем вопросом, он как поздний и составился в определённом виде. А здесь, во всяком случае, можно хотя бы, пусть не о себе, а о том процессе, который это дело сделало относительно гегелевской точки зрения… Мы к этому вопросу вернёмся, может, с другой стороны, а сейчас – более простой пункт. Как можно охарактеризовать суть отношения к историко-философскому процессу и его результату в лице гегелевской системы? Какого отношения к себе заслуживает гегелевское философское учение?
Е.С.: Ну и вопросы!
В.М.: Это продолжение на ту же тему, может быть, в каком-то особенном виде. Какого отношения заслуживало и заслуживает гегелевское учение? Ведь Вы же к нему относились и как студент, и как аспирант, и как преподающий, излагающий это учение уже для студентов, правильно?
Е.С.: Да. И ты думаешь, везде должно быть разное отношение?
В.М.: Нет. Отношение-то может быть одинаковым как понимание того, что это – результат, а содержание – разное. Вспомните, у Вас, наверное, одна была работа, письменно Вы же относились к этому.
Е.С.: Это зависит то того, какую задачу ты ставишь перед работой, ты же сам понимаешь. Ведь любая работа ограничена по содержанию, ограничена по задаче и так далее. Если даже написать сотню, две, пятьсот работ, всё равно они будут разные и ограниченные.
В.М.: Может быть, я немножко уточню. Одно дело – читать лекцию, скажем, по Декарту, по Канту. Мы видим, что есть некоторые предшественники. Вы даёте учения историко-философских предшественников и потом Канта. В том-то заключается его величайшая заслуга, тут он ошибался, вот то противоречие, разрешение которого требуется дальше. И другое дело – Гегель. Там присутствует логическая форма изложения философского содержания. Так ведь?
Е.С.: Да, и вся история философского познания присутствует. Значит, Гегель и вся история философского познания.
В.М.: Отнеситесь к этому, ведь очень многие сломали себе шею на Гегеле, не дойдя до него, пройдя мимо или извратив его. Ведь так же?
Е.С.: Да.
В.М.: Если это грех в отношении каких-то предшественников, это более-менее простительно, потому что само философское учение не даётся или оно недоразвито, индивид может там поплутать, то вот с гегелевским учением обойтись, как со всеми остальными, нельзя, ведь так же?! И потому, что это некоторый результат, и потому, что он дал идею философского познания вот в этом виде.
Е.С.: Да. Что можно сказать самое простое? Что гегелевская философия является систематизацией истории философии до Гегеля. Но обратите внимание, я сказал полушутливо, полуиронически, и одновременно тут есть доля истины. Почему? Потому что, если мы отбросим всю историю философского познания до Гегеля, от гегелевской философии ничего не останется по содержанию. Почему? Потому что гегелевская система, гегелевское учение – всего лишь раскрытие внутреннего единства истории философского познания до него, притом не покидая истории философского познания как реальности. Вот, пожалуйста, я определил уже, по сути дела, отношение гегелевского учения к его предшественникам. Иллюстрация? Пожалуйста, можно иллюстрацию дать. Вот мы берём бытие Парменида исторически, можно бытие Парменида взять по Платону даже, это уже не Парменид, это уже Платон в качестве Парменида, и бытие в логике Гегеля. Сравни хотя бы эти два или три момента друг с другом: Парменида, платоновского Парменида и гегелевское учение о бытии. Качество, количество, мера. И где мы найдём, у кого? В «Пармениде» Платона есть качество, количество, мера? Нет. У Парменида есть? Нет. Пожалуйста, вот тебе дана иллюстрация. Гегелевское учение и история философии как предшествующая и основание для гегелевской работы. Тут уже встаёт другая проблема. Почему Гегелю удалось это сделать? Обрати внимание, отчего логическая форма не возникла до Гегеля? Ну, например, в эпоху Декарта? Почему Декарт не создал логическую философию? Чего нужно было ждать Гегеля? Чего не хватало? Не хватало как раз учения Декарта, Лейбница, Канта, да?! И даже Шеллинга по- своему?! Это – то, что мы затронули в качестве стихийной разработки философской деятельности мысли – предмета – и рефлексии. Как видишь, эта проблема тяжелейшая. Тут рефлексия должна работать на стихию, стихия должна быть основой для рефлексии, и притом ни один, ни другой момент не убрать и не изъять, не изолировать друг от друга.
В.М.: Не поэтому ли у Гегеля идёт разработка не только науки логики, но и курса по истории философии? Это попытка соединиться со стихией и реальностью самого исторического процесса.
Е.С. Естественно. Так это чувствуется даже в большой «Науке логики». Обратите внимание, бах – и ссылка на какое-то философское учение по главной категории. Помните сами? Конечно. Больше того, если мы берём концовку «Науки логики», помните, он даже делает выходы в реальную философию?! Что должна быть за философия природы, за философия духа, по отдельным моментам философии духа и так далее. Это в качестве плана, который вылезает из глубин «Науки логики» в качестве главных моментов. Конечно, одно никак не отделимо от другого. Всё правильно. Понимаешь, Володя, ты задаёшь вопросы, которые касаются содержания, а тогда нужно уходить в содержание. То есть одной формой тут вопросы не могут ограничиться, поэтому некоторыми вопросами ты загоняешь нас в тупик в разговоре. Ладно, пошли дальше.
В.М.: Наверное, самый простой вопрос. В чём состоят основные причины «неадекватности» постгегелевского философствования – это «детская болезнь» дальнейшего развития или окончательное разложение и саморазоблачение уже выступавших исторически принципов?
Е.С.: Вопрос этот простой, и он не требует головоломки, мучительных форм рефлексии для ответа на него. Дело вот в чём. Серьёзно ставим вопрос. Берём развитие любого предмета. Посадили жёлудь – при нормальной почве в жёлуде есть все потенции, вся энергия жизни, чтобы развиваться, расти и так далее, то есть при здоровом жёлуде, здоровой почве, здоровых условиях среды, температурного режима и прочего жёлудь начинает расти. Берём случай, если жёлудь не растёт. В чём причина? Или почва плохая, неудовлетворительная, или жёлудь полубольной. Только два пункта, третьего-то нет. Дальнейшее развитие философии – предполагается, что предшествующее развитие было, а дальше развития нет. Почему? Почва плохая? До Гегеля философия имела почву, она развивалась, Гегель разработал свою форму в этом историческом процессе развития философского познания и этим самым якобы создал изуродованную, непригодную для дальнейшего использования почву, так что ли?! Это первый вывод. Правда это? Нет. Что же тогда мешает? Гегель мешает? Нет, наоборот. Последующая так называемая философия, философия после Гегеля не указала, что Гегель извратил предшествующую историю философии, свернул не туда, повёл в тупик, что «мы исправляем его и пошли в правильном направлении развития» – этого нет. В чём дело? Почва есть, присутствует, дальнейшее развитие эта почва обеспечивает, все условия объективные есть: свершившийся исторический процесс философского познания, учение Гегеля как примыкающее и завершающее предшествующую историю философского познания. Значит, на ком сосредотачивается внимание? На тех, которые взялись за философию после Гегеля. Только в их способности или неспособности к развитию коренится вся причина того, удалось развить дальше философию или не удалось. Берите любую философию после Гегеля, например, Кьёркегора, тем более он слушал лекции Шеллинга. Казалось, полемизируя против Шеллинга, он должен был примкнуть, что-то дать. Что он дал? Ничего. Учение Кьёркегора датского известно. Это чистая форма доморощенного иррационализма. В чём причина? Да в индивидуальной духовной форме самого Серёна Кьёркегора, и всё. Бери любое учение после Гегеля, смотри по содержанию и по форме – оно обязательно примыкает к различным формам средневекового номинализма или, наоборот, средневекового реализма; то есть то или другое учение выпячивается, притом, обратите внимание, подхватываются те учения, которые в историческом развитии философии имели подчинённую роль. Они вообще могли быть, могли не быть, они не сказались на развитии философского познания, на успехах его. Эти сопутствующие, средненькие, серенькие учения миновавших столетий подхватываются на щит, односторонне раздуваются; их стараются развить, сделать абсолютными, универсальными – и на этом дело останавливается. То есть это неудачные попытки развития философского познания, именно субъективные неудачные попытки. А в общем-то, если подвести этому итог, то коренится это и имеет причину в невежестве, в неусвоенности, непонятости всей истории философского познания от Фалеса до Гегеля. Только эта причина, больше нет. «Невежество не есть аргумент». Пожалуй, хватит об этом.
В.М.: С какими основными трудностями пришлось столкнуться на преподавательском поприще и как их удалось преодолеть? Менялась ли со временем преподавательская позиция и способ изложения материала?
Е.С.: Да, конечно. Это вопрос значимый по содержанию. Конечно, были трудности. Проистекавшие из чего? Когда человек впервые приступает к преподаванию какого-нибудь предмета, у него имеются только субъективные представления о том, что это такое, в какой форме, какое содержание, как давать, как преподносить и так далее. И, как правило, они оказываются примерными, приблизительными и неудачными представлениями. Сталкиваясь с реальностью процесса преподавания, они терпят крах, ломку, требуют полной переработки, пересмотра. И я тоже прошёл через это. Потому что никогда не знаешь, в какой форме лучше всего преподносить то или другое содержание для слушателя. Почему? Потому что ты не знаешь, во-первых, слушателя, что он способен воспринять, что он способен не воспринять, что заденет его, что его не заденет, что заинтересует его, что, наоборот, уведёт от пробуждения интереса, то есть это всё остаётся неизвестным, неопределённым. И когда впервые сталкиваешься с этим, конечно, претерпеваешь полную ломку преобразования позиции. Меняется содержание, меняется форма. Одно время, поскольку мне было гораздо легче в философских проблемах придерживаться логической точки зрения, потому что историческая точка зрения очень мучительная, длинная, очень искривлённая, с перепадами взлёта и падения, движения вперёд, возврата назад и так далее, то есть всеми причудами исторического стихийного процесса, она очень трудна и мучительна и для преподнесения, для преподавания, я старался придерживаться логической точки зрения, притом максимально логической. Читал, помню, я один год лекции, по возможности придерживаясь логической точки зрения в рассмотрении и изложении. И каково было моё удивление, когда я потом обратился к аудитории с вопросом: «А вам понятно, что я говорю?» – и получил ответ очень простой: «Очень интересно, но ничего не понятно»! У меня так и руки опустились. То есть надо было посчитаться с тем сознанием слушателя, с которым он приступает к слушанию того, что ты преподносишь ему в качестве содержания. После этого я радикально изменил взгляд, стал внимательно и тщательно следить прежде всего за сознанием и восприятием рассматриваемого содержания, а потом уже за всем остальным. Естественно, логическая позиция ушла больше на задний план. Я её знал, я её предполагал, я её видел, но я её не излагал и не преподносил для слушателя, чтобы как раз не удваивать его сознания на два предмета: на содержание и ещё на то, каким способом я преподношу это содержание. Вот так примерно, если кратко ответить. То есть тут неизбежен постоянный процесс отношения слушателя и преподающего именно как процесс, который требует уточнения и по содержанию, и по форме.
В.М.: Такой вопрос. В античности был свой способ существования философии, индивид мог сам по себе заниматься, чем-то интересоваться, а мог, как Платон и Аристотель, создавать некоторые кружки, школы, академии, когда принцип, добытый тем или иным философом, каким-то образом расширялся, уточнялся, доносился до современников, способных к его восприятию. Мы ещё знаем Декарта, который тоже был вольным человеком, да, посещал курсы, факультеты, изучал все науки, а потом сидел и писал трактаты, и этого ему хватало. Потом философия несколько социализируется. Люди становятся профессорами, получают степени, признание, становятся участниками академических структур. В советские времена – то же самое. Сначала – в дореволюционные, потом советские. А какая форма всё-таки наиболее оптимальна сейчас, в том числе для нашей российской действительности? Какая-то третья?
Е.С.: Нужно отправляться от объективных условий, в которых осуществляется деятельность. Советский период нужно иметь в виду, что он был, и относительно неплохой период для занятий наукой, потому что, в общем-то, науку ничто не тормозило, преград для науки, ограничений не ставилось, и финансирование нормальное было, и качество преподавательско-профессорского состава было нормальным. Но сейчас время совершенно другое – время, в которое Министерство высшего образования торгует всем и вся: дипломами по мнимому обучению в вузах, кандидатскими диссертациями, докторскими дипломами и так далее. Торгашество пронизывает весь процесс обучения в вузах, все учёные советы по кандидатским и докторским диссертациям, соответственно, Министерство образования полностью пронизано куплей-продажей. Сейчас идти официальным путём получения дипломов отчасти, наверное, нужно и можно, потому что вся эта форма не истреблена, не запрещена, не ликвидирована, не уничтожена, она сохраняется и предполагает, что она должна быть здоровой формой, лишённой продажности, купленности и так далее. Если эта форма (получение определённого диплома) одновременно предполагает увеличение заработной платы, то это уже тот пункт, который крайне необходим для преподавателя, потому что на копейки выживать преподавателю – это, в общем, нужно быть Христом в пустыне в течение месяца, и не по Ветхому Завету, Моисею, но никак не работником высшей школы! К сожалению, условия таковы, что выживание губит развитие занятия наукой, соответственно, и философией. Поэтому хорошо, конечно, если бы возникла другая форма развития научного интереса ради самой данной науки. Соответственно, были бы организованы публикации результатов исследования, журналы для публикации статей в качестве небольших отчётов по проблемам, которые разрабатывают, решают и так далее. Но, насколько показывает история, такие сообщества содержались королевской властью, королевской казной, и я не знаю других случаев, чтобы это были сообщества каких-то индивидуально настроенных учёных, которые имели бы какие-то «левые» доходы для создания и поддержания ежедневной деятельности данного научного кружка. Тут всегда стоит вопрос о финансовом содержании, о жизнедеятельности, об условиях, о простой необходимости есть, пить, обуваться, одеваться, иметь жилище, прежде чем заниматься наукой, потому что человек, лишённый всех этих условий, никакой наукой заниматься не будет, он будет бомжом, вот и всё. Вот так примерно ответить можно. Тут ничего более радикального не скажешь.
В.М.: И всё-таки остаётся ли философия некоторой роскошью, как в королевские времена, что зависит от произвола и доброжелательности этой особы, или она всё-таки является необходимой дисциплиной, без которой вузовская наука, академическая наука будет просто деградировать или идти бог знает куда, и плодов образования и завершённости образования мы не увидим хоть в западных демократиях, хоть в России?
Е.С. Я на это отвечу очень просто. Философия относится к числу тех наук, которые являются мировоззренческими. Это не науки положительные, позитивные, которые держатся в своём бытии за счёт определённого предмета, и только. Философия – это наука, которая держится не только за счёт предмета и не столько за счёт предмета, хотя он имеет решающую роль, сколько за счёт способа мысли. Каков способ мысли, такова и философия. Мировоззренческая наука означает в данном случае очень много по определению в своём содержании. Это означает, что это единственная наука, которая связана с деятельностью разума. Пока науки барахтаются в сфере чувственно-рассудочного сознания, чувственно-рассудочного мышления – они не мировоззренческие, это опытные науки, и они не являются решающими. Почему? Потому что мировоззренческие науки касаются природы всеобщего, притом во всех его определениях. Опытные науки независимо от того, объективная сфера является их предметом или субъективная, никогда не имеют дела с всеобщим. Значит, они не имеют дела с вопросами, является ли Вселенная причиной себя самой или, наоборот, она создана кем-то или чем-то и так далее. А это вопросы не праздные, не второстепенные, потому что одно дело – быть созданным кем-то, быть тварью, и другое дело – быть самостоятельным. Если перевести это в конечные сферы бытия, заветная мечта, например, сейчас США в отношении к России состоит в том, чтобы Россия была управляемой со стороны США, чтобы Россия была марионеточным государством, марионеточным народом, марионеточной формой демократии. А когда Россия обнаруживает малейшую тенденцию, чтобы быть независимой от США – всё, озлобление, злоба, сразу вся направленность вооружения против России и так далее. Я просто даю иллюстрацию того, насколько мировоззренческие проблемы важны, потому что мировоззренческая проблема – это проблема самостоятельной деятельности мышления во всех сферах, во всех формах. Поэтому мировоззренческие дисциплины дают простор человеку, учат его, дают возможность самостоятельно думать. Вот насколько это важно. А остальные науки не учат самостоятельно думать. Обратите внимание, опытные науки имеют успехи не за счёт самих себя, а за счёт думающей способности разрабатывающих эти науки и работающих в них, то есть за счёт способности, которая выходит за пределы опытной науки. Вот как дело обстоит. Я, по-моему, ответил.
В.М.: Мы подошли к нашей русской действительности. Каковы, на Ваш взгляд, основные особенности русской духовной культуры и отечественного любомудрия (в сравнении с греческим и германским способами мысли и культуры)?
Е.С.: Особенность есть. В чём эта особенность? Я думаю, нужно начать с истока, а именно со способа духа русского народа. Дело в том, что каждый народ имеет только ему присущий способ духа, и он не может быть заимствованным у другого народа, не может быть пересажен другим народом или передан другому народу. Это – то неотъемлемое свойство народного духа, без которого народный дух перестаёт быть народным духом, духом данного народа. В чём отличие в данном случае духа русского народа от духов народов других стран? Лучше дать сравнение. Давайте возьмём греческую форму духа. Греческий дух очень интересен тем, что в своём основании он является духом именно всего греческого народа, но на этом основании есть величайшие индивидуальные взлёты, индивидуальные выделения, так сказать, звёзды, вершины греческого народного духа. Одна ветвь этого духа пошла по линии разработки искусства в Греции, и мы знаем образцы этого искусства, образцы этой духовной деятельности и жизни. Другая форма этого духа пошла в разработке как раз философского познания. Что касается философского познания, греческий дух, наверное, является единственным среди духов всех народов, живущих на Земле, который имеет самую классическую форму своего формирования, развития и движения от пункта к пункту, начиная от Фалеса, если брать философскую форму, или от Гесиода и Гомера, если брать мифологическую форму. Ну и ладно, это греческая особенность духа. Что касается русской особенности духа, её, наверное, можно после этого сравнить с немецкой особенностью народного духа, с французской особенностью народного духа. Что мы имеем в виду? Момент по линии искусства, в общем-то, на первый взгляд кажется совпадающим с деятельностью французского духа, деятельностью немецкого духа. Что касается философской формы деятельности духа, то тут различие выступает. Почему? Потому что на почве русского народного духа не разрабатывались, не создавались системы философии. Это правда. Но обратите внимание, и у греческого духа не с философии ведь начиналось выражение и развитие греческого народного духа, а сперва был дофилософский период: мифология, искусство и так далее. Русская особенность духа состоит в том, что он больше в форме искусства обнаружил свою мощь, свою глубину, притом глубину, которая выходит за пределы даже формы искусства, вот что интересно. То есть мы как раз в русской форме духа имеем своеобразную форму деятельности в сфере красоты, в царстве красоты и через царство красоты прокладывание всестороннее, притом глубочайшим способом, формы истины. Я думаю, к этому надо прибавить ещё религиозную форму духа русского народа. Пока мы можем коснуться православной формы христианства. В отношении православной формы христианства я должен подчеркнуть, пожалуй, один только пункт, а именно православное христианство не скатилось к односторонности сотворения богом Вселенной. Это учитывается как традиция, перешедшая от иудаизма в христианство, или, скорее, утверждённая, сохранённая как якобы неотделимая от христианства. Почему? Потому что, видимо, сторонникам христианства казалось, что без сотворения Иеговой Вселенной христианская религия неполна, однобока, одностороння, и поэтому эта позиция попала из огня да в полымя. Почему? Потому что с позицией сотворения Иеговой Вселенной она абсолютно уязвима в двух моментах. Первый. Там имеется в виду, что сперва был Иегова и не было больше вообще ничего, кроме него. Хорошо. Этот период берём по Ветхому Завету. Если есть только Иегова и нет больше ничего, то, простите, пожалуйста, как его можно называть богом? Потому что бог появляется по определению только там, где появляется иное, чем бог. Нет иного, чем бог – нет и бога, потому что один бог при отсутствии всего остального не является богом. Бог требует отношения. Иегова, когда нет больше ничего, кроме него, не является богом. Хорошо. Иегова сотворяет Вселенную из ничего. Это второе положение и второй момент. Хорошо. Он был по первому положению богом, а теперь он сотворил иное себя самого. Иное себя самого обладает бытием? Конечно. Это иное бытие, чем бытие Иеговы. Значит, бытие Иеговы перестало быть абсолютным. Сотворив иное, Иегова перестал быть богом. Понятно? И не сотворив, он не является богом. А где же Иегова как бог-то? К христианству и присоединена вот эта нелепость, без которой, якобы, христианский бог неполный. Теперь дальше. По поводу христианской формы представлений и по сути. Посмотрите. Берём чисто философскую форму. Природа и дух, материя и дух, бытие и мышление – ясно, что это антиподы. Свести полностью к бытию всё, и нет никакого мышления, нет никакого духа, нельзя – мы получаем мёртвое бытие. Берём противоположный момент – дух, мышление, берём их и сводим только к ним всё – мы уничтожаем опять и бытие, и само мышление, сам дух. Вывод один – природа и дух представляют собой два полюса какого-то высшего единства, именно единства природы и духа, бытия и мышления. Великолепно. Обратите внимание, мы получили что? Троицу! Мы в единстве имеем единство противоположностей! Вот и разгадка триединой природы христианского бога! Можете как угодно проклинать теперь философию, благословлять её, ворчать на неё, сердиться на неё, браниться – ничего не меняется. Почему? Потому что отсюда следует, что всё, что существует во Вселенной, определено в себе самом. Другое дело, в какой форме эта определённость выступает: во всеобщей, в особенной или в единичной – только и всего. В таком случае русская форма духа – что такое? Это триединая природа бога в образе красоты, в образе искусства. Есть это в русском искусстве? Есть. Поэтому без преувеличения можно сказать, что у нас искусство – это первоначальная форма философии в буквальном смысле слова. Только содержание это нужно уметь понять, вычитать, воспринять в форме именно искусства. Но это означает что? Что русский дух ещё не достиг [вершины] своего развития. Он только должен перейти от художественно-религиозной формы к философской! Но зато, обрати внимание, если ты сравниваешь искусство, например, Германии до Канта, искусство Франции до Декарта с нашим искусством, то обнаруживаешь гигантскую форму различия. У нас какое искусство содержательное, богатое по содержанию и по форме и там какое тощее, убогое и бедное искусство! То есть задатки у нас огромные для того, чтобы как раз дальше выступила именно философская форма истины! Вот и всё, пожалуй.
А.П.: Может, не выступит, и мы застрянем на художественно-религиозной форме искусства?
В.М.: Или это невозможно – удержать русскую форму духа в форме искусства?
Е.С.: Я думаю, это не зависит от нас с вами, от индивидуальных намерений. Если мы берём всеобщий процесс как движение от искусства к религии и философской мысли, а мы, к сожалению, в истории уже имеем эти три формы, особенно немецкая философия пока что в третьей форме выступила, то не от нашей воли зависит это намерение выступать или не выступать философской форме.
А.П.: Философская форма выступит, но, может быть, уже не на русской почве?
Е.С.: А какое это имеет значение?
А.П.: Для русского духа – большое.
Е.С.: Дело в том, что такая богатая форма духа в форме искусства не может быть остановившейся в себе самой, она – предпосылка для более высокого способа истины, которая уже есть. Это – то же самое, как Володя ставил вопрос: «Как же так, вот Гегель дошёл до этого, а после Гегеля выступили незнамо кто?» Да, вполне возможно, что эмпирически будет какой-то перерыв между фазой, о которой мы сейчас говорим с вами, и фазой, которая начнёт выступать как философская форма. А философская форма не такая трудная, как кажется, потому что материал-то в сыром виде весь есть, история философии же есть реально. Просто-напросто давай осмысляй ещё заново, перерабатывай, разрабатывай, притом не за ней плетись, а бери её суть в качестве основания – то, что сделал Гегель в «Логике». Он не описывал исторические явления философского познания – явление за явлением, а как раз, наоборот, добрался до сути и поставил её во главу угла, а потом и лекции по истории философии начал читать именно таким образом: не идя исторически, а именно отправляясь от сути самой истории философского познания. Вот и всё. Поэтому я не вижу, почему это должно остановиться.
В.М.: Такой вопрос, юбилейный совсем, раз у нас такое необычное интервью. Что удалось сделать на философском поприще как основном деле жизни, а что осталось не совершенным или не завершенным?
Е.С.: Возвращение уже не в первый раз к этой проблеме сегодня при встрече. Да много не удалось сделать и мало удалось. Почему? Потому что, чтобы сделать что-то, нужно было добраться до адекватного понимания того, с чем имеешь дело. И это очень длительная, мучительная и трудоёмкая работа. То, что удалось сделать, я даже в ответах сегодня формулировал. Хотя бы триединая природа всеобщего первоначала – это тоже удалось, как видите, сформулировать, то, что первоначало не сводится ни к материи, ни к духу, не говоря уже о производных моментах. Кое-что сделать удалось, слава богу. Что не удалось сделать? Не удалось полностью пересмотреть, передумать философию природы Гегеля как высшую форму по данному предмету, потому что из попыток философии природы после Гегеля назовите мне одну, которая заслуживает хотя бы внимания. – Их нет. Единственная незавершённая работа, которая имеется (она и осталась в качестве черновой, незавершённой работы, набросков) – это «Диалектика природы» Энгельса. Великая задача поставлена – рассмотреть диалектический процесс в природе, начиная с механической формы и заканчивая органикой как переходом к человеческому духу, но работа осталась только в собранном черновом варианте материала, поэтому она может быть принята во внимание, но никого не удовлетворит уже. Вот эту работу, незавершённую Энгельсом и оставленную Гегелем как высшую форму философии природы, нужно было заново переработать и наметить хотя бы главные пункты. Это первое. Гораздо больший простор и гораздо большая энергия требовались бы для разработки философии духа, а именно нужно было использовать новый материал по антропологической природе духа. После смерти Гегеля возник и имеется этот огромный материал, и там можно получить если не совсем новые существенные определения, то, по крайней мере, важные для углубления и уточнения того, что дано в работах Гегеля. Дальше. Наверное, по-новому нужно было посмотреть феноменологию духа после Гегеля. Почему? Потому что Гегель разрабатывал феноменологию духа ещё стихийно, для нас она выступила более определённо в качестве трёх моментов, а именно в качестве развития субъективного мышления от чувственного сознания до разума, раз, дальше, как усвоение сущности объективного духа, его истории на втором круге феноменологии духа, это второй момент, как усвоение абсолютного знания в качестве третьего момента индивидуальным духом. Вот это можно было переработать заново в соответствии с более чёткой формой осознания этого и посмотреть, какая более уточнённая форма феноменологии получилась. Я имею в виду, что выводы, конечно, остались бы неколебимыми в качестве основных, а именно всё равно результатом было бы понятие как бытие или бытие как понятие, потому что феноменология духа должна приводить к логическому началу познания, именно к всеобщей логике. Вот это нужно было сделать, переработать полностью. Может быть, переработать нужно было полностью, с учётом нового материала, хотя материал тут мало что даёт, раздел психологии. Почему? Психология за последние сто лет ушла от своего предмета. Она скатилась к физиологии, к психологическим явлениям духа и на этом остановилась. Дальше. Очень важным моментом было бы развитие и рассмотрение всеобщего в мировом процессе истории. Это в высшей степени важно, потому что то, что Гегель дал в качестве философии истории – это только предварительный набросок. Вот что нужно было заново переработать, разработать и пересмотреть. Дальше, что ещё нужно было сделать? Посмотреть религию с учётом опыта за последние 150 лет, но тут мало что радикального мы получили бы в качестве исследования, материала мало, потому что в основном господствует тенденция деградации религии. Тогда в этой переработке философии религии Гегеля встаёт задача спасения моментов истинной религиозной формы. Одно дело – относиться к религиозной форме враждебно-отрицательно как к заблуждению, которое от лукавого, и другое дело – посмотреть на религиозную форму как на исторически необходимую форму истины. Если относиться отрицательно, тогда многое придётся просто выбросить. «А, это историческая форма, она уже миновала, её надо выбросить» – ну и всё, останешься ни с чем, с пустотой, без содержания исторического процесса развития и так далее. Вот примерно так я бы сказал кратко по главным пунктам. Всё?
А.П.: Очень много тем, относительно которых хотелось бы расспросить Евгения Семёновича, он уже проговорил, и нет смысла повторяться. Есть два момента, которые меня сейчас интересуют, беспокоят, и я хотел бы услышать ответ. С одной стороны, это продолжение темы, с другой, не с таким личным аспектом. Общеизвестно, что исторический процесс развития философии завершился в логической гегелевской форме, логика Гегеля завершает исторический процесс развития философии. А дальше-то что?
Е.С.: Дальше?
А.П.: С одной стороны, любое начало всегда непосредственно, абстрактно, я имею в виду логическую форму философии Гегеля как начало разработки логической формы, и должно последовать продолжение, то есть должен выступить момент рефлексии и начаться процесс истории самой логической формы – не той истории, которая была до Гегеля, а истории развития внутри самой логической формы. Это имеет место или что-то другое?
Е.С.: Не ломай ты голову. Вот «Философия права» Гегеля, известная работа. Обрати внимание, прежде чем Гегель начинает рассмотрение того, что такое семья, общество, государство и так далее, больше того, прежде рассмотрения абстрактного права он говорит, что в этой работе следует основным положениям логики (помните это?), и всё, что будет развито дальше, является результатом использования логики, метода, изложенного в логике, к предмету, который носит название философии права. Вот дан пример – дана логика Гегеля, она имеется, и дано её применение. Можно пройти по всем остальным работам Гегеля – найдёшь то же самое. Например, берёшь «Философию религии»– можно спокойно проследить логический метод, который присутствует здесь. А как выделяются разные исторические религии?
А.П.: Хотите сказать, что должно последовать применение метода к особенным дисциплинам на современном этапе, о чём Вы говорили?
Е.С.: Конечно. Всеобщий метод применяется к особенному предмету, всё.
А.П.: И рассматривается природа на современном этапе понимания, нужно отнесение принципа к кваркам, нейтронам, прочим открытиям, точно так же – в биологии, физиологии и так далее.
Е.С.: Совершенно верно, абсолютно везде, ведь это же всеобщий метод. В нём-то и выражен всеобщий процесс развития.
А.П.: Но одновременно это и разработка метода.
Е.С.: Конечно. Одновременно с разработкой содержания будет разрабатываться и метод, уточняться, более строго определяться.
А.П.: Вот и момент рефлексии.
Е.С.: Смотрите, у нас есть и предшествующий пример. Фихте сперва разработал основы всеобщего наукоучения, а потом на основании всеобщего наукоучения он разрабатывал философию права и так далее – на основании принципов наукоучения. Всего-то наукоучения – там же метода как метода нет как такового, знаете сами. Но главные пункты принципа установлены – он соответственно этим пунктам и разрабатывает. Пусть метод отсутствует, но зато есть главные пункты, на которые он опирается, разрабатывая определённый раздел философии.
А.П.: Грандиозная задача, которую никто не взялся осуществлять, работы –непочатый край.
Е.С.: Да, работа труднейшая, потому что одну сферу возьми – ну что там, кажется на первый взгляд, я справлюсь без труда, а как берёшься, – вы знаете сами, – так начинаешь застревать, потому что чем детальнее начинаешь работать, углубляясь в мысль, тем больше трудностей возникает, больше вариантов, куда идти, как развивать, что развивать, на чем делать главный акцент, что считать второстепенным и так далее, что должно определять что, что первично, что вторично – тут тысяча проблем, и это известно всем нам. Но это не проблема. Главное – работать нужно. Главное – познавать. Главное – разрабатывать, решать проблемы.
А.П.: Следующий вопрос. После изучения позднего Шеллинга у меня возникла мысль, что дальнейшая история философии после Гегеля во многом определена Шеллингом. Поясню, почему. На мой взгляд, Шеллинг вообще уникальный философ. Когда его способ духа не справился с задачами, которые он себе наметил, он в результате рефлексии получил вывод, что раз не получилось начать с логического всеобщего и прийти к особенному природному и духовному, надо, дескать, всё это перевернуть, и заявил, что надо начать с бытия, а не с мышления, от бытия перейти к мышлению, и после этого назвал свою новую философию позитивной. В его философии откровения я обнаружил зачатки и позитивизма, и экзистенциализма, и даже философии жизни, о которой он говорит. Можно так сказать?
Е.С.: Совершенно верно. Черпали оттуда они.
А.П.: Даже те случайные формы, о которых Вы сегодня говорили, что это – жалкие подобия того, что делалось до Гегеля, тоже возникли не случайно, а были навеяны и разрабатывались Шеллингом. Стоит только в основании позитивизма увидеть шеллинговскую позитивную философию, в основании экзистенциализма – перевод die Existenz не как «существование», а как «экзистенция» и сделать упор на этом частном, особенном, единичном бытии, которое не получается у Шеллинга, если выводить его из всеобщего, поэтому с него надо начинать, стоит только вспомнить о фразе Шеллинга, что он занимается не философией школы, а философией жизни, откуда есть пошёл Дильтей, то в принципе весь XIX век укладывается в Шеллинга. Насколько это верно?
Е.С.: Так и есть. Поздний Шеллинг действительно явился исходным пунктом и подушкой для многих форм, которые ушли от Гегеля. Он же ведь ввёл различие между was и dass в немецком написании – «чтó» и «что». На самом деле это языковое различие по содержанию касается сущности и существования. Обратите внимание, экзистенциалисты говорят, что они, мол, исходят из существования, потому что сущность – это вторичное, производное, рациональное, это связано с примесью деятельности ratio человека, а нам нужно без всякого ratio чистое существование, – это же и есть Шеллинг!
А.П.: Но в таком случае у нас при преподавании философии на философских факультетах очень большая лакуна: у нас доходят до Гегеля, а потом начинается провал, и никто не берёт на себя труд объяснить, откуда вдруг после Гегеля взялся тот же самый Фейербах, Сёрен Кьеркегор.
Е.С.: Но Фейербах-то понятен ещё, потому что его исходный пункт – Гегель.
А.П.: Когда я был студентом, у нас на четвёртом курсе вдруг выступает А.Б. Рукавишников и начинает толкать «Мир как воля и представление» – абсолютно без всякой рефлексии, как это возможно после Гегеля, просто пересказывает позитивно то, что он там вычитал. При этом оказывается, что Шопенгауэр – ещё хороший философ, потому что потом были только хуже! Потому что дальше мир оказывается не только волей и представлением, а…
Е.С.: …мировой волей до человека.
А.П.: В общем понятно, что это – ступень духа, не дотянувшая до философии, неразложившийся рассудок. Но почему он выступил после Гегеля, никто не брал на себя труд объяснять.
В.М.: После Гегеля понятно, что Гегель умер (в виде шутки). Кто-то вышел из шеллинговской шинели, кто-то из кантовской. Откуда выскочил Шопенгауэр? Не из Шеллинга точно. Хайдеггер вышел из греков: вернёмся к бытию греков, это наш общий дом и так далее… Вот и получается галерея историко-философских принципов в такой несколько экзотически-извращённой форме во второй половине XIX и в XX веке.
А.П.: Меня не устраивает признание этой галереи как случайности, я всё-таки хочу найти в ней необходимость.
В.М.: Посмотри, здесь уже нет необходимости. Это как предположение. Евгений Семёнович, поддержите или не поддержите? Гегель умер, оставил после себя произведения. Индивиды в своём духовном развитии выскакивают за искусство, за какую-то форму представления, хотят философствовать. А раз ты хочешь философствовать, будь любезен вольно или невольно выбери себе что-то из истории философии – вот они это и делают. Конечно, это необходимость. Каждый – по необходимости. До какой необходимости дорос – такого персонажа и получил.
Е.С.: Возьмите проблему в другой форме. Представьте себе, что 2000 лет назад выступил Христос – один, потом ученики его последовали за ним, один оказался предателем, не в этом сейчас дело. 2000 лет прошло. Христиан сейчас насчитывается, наверное, около 2 миллиардов человек на земном шаре, это огромное количество. Но задайте один вопрос, какое представление о триединой природе христианского бога у каждого христианина. Я скажу: это почти 2 миллиарда вариантов. Ты найдёшь в лучшем случае 2-3-5 человек, которые едино смотрели бы на триединую природу христианского бога. Как быть? Это случайно или необходимо? Конечно, необходимо. Но необходимость коренится в индивидуальном развитии мышления, индивидуальном развитии духа каждого христианина. Она не вышла за пределы субъективной индивидуальности. Понятно это?
А.П.: Это понятно, Но, с другой стороны…
Е.С.: Мы-то что хотим? Ты проследи за своей мыслью. Ты хочешь брать движение субъективной мысли, но так, чтобы в ней отразилась объективная форма необходимости!
В.М.: Да ещё чего – идеи философии!
Е.С.: Да, идеи философии. А это возможно так?
А.П.: Вот я и пытаюсь понять, возможно это или невозможно.
Е.С.: Нет, конечно.
А.П.: Ведь и до Гегеля выступало огромное количество философских учений, а необходимость развития понятия философии в истории философии прослеживается только через определённого рода учения.
Е.С.: Конечно.
А.П.: Вот я и хочу понять, в том, что сейчас выступает, есть развитие идеи, понятия философии или вообще никакой идеи нет, а это просто спорадический букет, фонтан – кто во что горазд?! Есть ли необходимость у этого времени – вот что надо понять. Для меня мало просто в общем виде утверждать, что это недоразвитый, недоразложившийся рассудок. Вот внутри него что-то куда-то зреет, потом выступит второй Гегель, или это пока никак с точки зрения цели неопределимое, пёстрое, цветастое выступление кого попало, кого с левой, кого с правой ноги? И никакого порядка в этом нет?
В.М.: Евгений Семёнович, а я Лёше задам вопрос. Назови мне хотя бы двух индивидов в XIX и XX веке, так чтобы один индивид вытекал из другого и следовал ему.
А.П.: Так и до Гегеля таких нет.
В.М.: Извини, Платон – из Сократа, Аристотель – из Платона, и никак не раньше.
Е.С.: И тоже с моментом отрицания, никуда от этого не денешься.
В.М.: Безусловно. Но одно из другого следует, и даже индивидуально, и по сути следует. А приведи мне такой пример из так называемой философии XIX и XX века. Нет такого? Так о какой необходимости можно говорить?
А.П.: Вот я и пытаюсь это понять. То есть, как после Аристотеля 1000 лет чёрного мрака, так после Гегеля наступил период чёрного мрака, и он будет длиться 1000 лет?!
В.М.: Стоит ли переживать по этому поводу?
А.П.: Стоит.
Е.С.: Это не наша проблема.
В.М.: Разве мы можем поставить это в вину любому из десятков или сотен тысяч людей, которые зафилософствовали хоть кое-как и до чего-то добрались? Да слава богу, что так. А как их оценить? Вот так их оценить, если объективно, серьёзно подходить.
Е.С.: Хорошо, что они хотя бы изучают философию, тянутся к этому – и то уже великое дело.
В.М.: Не забыли, не впали в какую-то форму средневекового отношения.
Е.С.: Не озабочены тем, как грабануть 3 миллиарда рублей. Понимаешь, в чём трудность той проблемы, которую ты ставишь. Когда мы говорим «необходимость», «случайность», это вроде бы простые определения. На самом деле – это процесс и там, и там. Это раз. Во-вторых, а что такое случайность? Она что, лишняя? Ведь случайность – это единичное бытие необходимости, если мы увязываем существенные отношения между случайностью и необходимостью. потому что убери всё случайное – и ты необходимость превратишь в случайность. Почему? Потому что лишаешь её единичности бытия, и тогда она исчезает, как исчез Иегова в моём анализе, когда я разбирал вопрос, является он богом до сотворения или после или не там и не там.
А.П.: Я хочу ответить на тот вопрос, который Володя мне задал, кто из кого вытекает, попытаться проследить ту случайность, свести её к необходимости. Если мы говорим о том, что в русском духе готовится выступление из художественно-представленческой формы, происходит движение в сторону философии, это движение как-то должно артикулироваться?!
Е.С.: Да.
А.П.: То есть есть смысл, всеобщий ход, движение к цели, и я хочу его выявить. А в мировом масштабе есть такое или нет?
Е.С.: Я же индивидуально делал это. Я тщательно изучил историю русской духовной культуры, по крайней мере, литературу, живопись, музыку. Я их основательно знал ещё до университета, углублял знания, учась в аспирантуре и после аспирантуры. И это помешало мне в разработке философии? Нисколько, наоборот. Я куда ни кинусь, передо мной возникают образы из творчества Толстого, Тургенева, Лескова, Бунина, Вересаева. Это работает, хотя я никогда на это ни устно, ни письменно не ссылался. А зачем? Это внутренне работает как материал, как содержание, и прекрасно.
А.П.: Это только в Вашем индивидуальном духе совершается или это можно проследить внутри особенного народа?
Е.С.: Я думаю, это у каждого.
А.П.: Вот это-то и интересно проследить.
В.М.: А то вдруг мы проспим начало философской эры в России?
А.П.: Мы не проспим.
В.М.: Уже хорошо.
А.П.: И последний вопрос, связанный с этим. Вчера Александр Александрович Ермичёв по-хорошему позавидовал Вам как человеку, вокруг которого сформировалась школа, ученики.
Е.С.: Ну дай бог. По крайней мере, это люди, которые заинтересованы в философии.
А.П.: Вот Ваше отношение к ученикам. Есть ли у этой школы перспективы, или они распадутся, как старогегельянцы, младогегельянцы, и миллион поменяют по рублю?
Е.С.: Начнём с конца. Я думаю, тут любые аналогии неуместны, потому что только для рассудка кажется, что в истории всё повторяется. Потому что его два пункта, два абсолютных тезиса уничтожают друг друга: в истории всё ново и в истории всё старо. Когда мы говорим «старогегельянская школа» – что мы этим хотим сказать? Это то же самое, как вопли политиков: «Ой, Проханов хочет восстановления СССР!» А что, СССР можно восстановить?! Дело в том, что в истории нет одного и того же, что повторялось бы в разные эпохи: вот прошёл период – и опять то же самое повторяется. Это абсолютно не соответствует всеобщему процессу развития. Это раз. Во-вторых, а что значит школа? Школа – это определённое количество индивидов, которые являются единомышленниками по главной точке зрения. Ну и что? Эта точка зрения, что есть конкретно-всеобщее единство противоположностей под названием абсолютное начало всего существующего и конец его, исчезнет? Будет распад какой-нибудь во взглядах на это? Что, вместо всеобщего единства противоположностей будет придумано какое-нибудь другое?! Например, единство чёрного и белого?! И на этом распалась так называемая школа единомышленников? Нет? Это, по-моему, уже проблемы совершенно искусственные, порождённые субъективной рефлексией. Как можно охарактеризовать: Сократ, Платон, Аристотель – это школа или не школа? На самом деле это единая школа!
А.П.: Я имел больше в виду платоников или аристотеликов, кантианцев.
Е.С.: Это зависит от того, что понимать под школой. Можно под школой понимать неоплатоников, неоаристотеликов – людей, которые придерживаются односторонней точки зрения.
А.П.: Не односторонней точки зрения, а людей, которые понимают единство как то, что Вы сказали, как единство противоположностей бытия и мышления, но каждый из которых не в состоянии дальше ничего породить, которые только сохраняют вот это. Пропал Платон – и нет платоников. Есть эпигоны, но нет продолжателей. Есть куча Ксенофонтов, но нет ни одного Платона.
Е.С.: А я задам вопрос коварный. Если мы отбросим неоплатоников, исторический процесс философского познания претерпит какой-нибудь ущерб? Мы заметим, что их не было – Прокла, Плотина?
А.П.: Претерпит. Заметим их отсутствие.
Е.С.: А в чём?
А.П.: Преемственности не будет.
Е.С.: Да и ладно. Что они по содержанию дали после Платона и Аристотеля?
А.П.: По содержанию – ничего.
Е.С.: Вот. А я, между прочим, давал по содержанию после Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, и вы это знаете.
А.П.: Да. Но никто после не даёт.
Е.С.: С чего вы взяли, что вы никто не даёте? Вы просто не отдаёте отчёта о себе.
А.П.: Вопросы от А. Н. Муравьёва. Соответствует ли мировой уровень философии тому, что должно быть?
Е.С.: А кому известно состояние философии в мире? По-моему, она везде прекратилась, кроме России.
А.П.: Вот Вы и ответили на второй вопрос о состоянии философии в России. И третий вопрос. Если это состояние неудовлетворительно, то в чём и каковы пути выхода к более должному состоянию философии?
Е.С.: Состояние, конечно, неудовлетворительное. Почему? Потому что не достигнуто то, что должно быть достигнуто. Надо двигать, развивать философию в России от формы искусства, от формы красоты к философской форме. Но для этого есть только один путь – именно изучение, усвоение, понимание, изложение понятия истории философского познания. Другого пути нет и не было. Обратите внимание, мы берём Фалеса – начало европейской философии. Был бы Фалес, если бы не было Гомера, Гесиода? – Не было бы. Весь период от Гесиода и Гомера до Фалеса был подготовкой того, чтобы выступил Фалес, и Фалес знал их. Если бы он не знал, не было бы Фалеса. Потому что высказать простое положение, что вода есть начало и конец всего сущего, – значит продемонстрировать высокий взлёт мысли! Вся система богов Гесиода, разработанный Гомер и вся народная форма греческого духа – всё это присутствует здесь в качестве базиса и предпосылки. Нет основания, почвы, предшествующего – нет существующего.