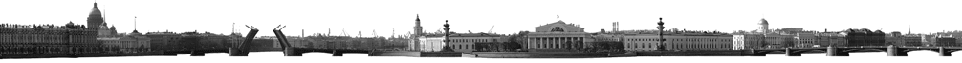Олег Сумин
Олег Сумин
РОССИЯ, БОЛГАРИЯ И ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
Доклад на международной конференции, София, 15-17 июля 2009 г.
URL: http://www.sumin.copula.ru/
І
Данная конференция проходит на земле, которую без преувеличения можно назвать священной для русской и восточнославянской культуры. Здесь зародился наш независимый исторический дух, который связан с нашей письменностью и православным христианством. Из Софии всего несколько часов езды до Афона, Святой горы – этого духовного центра православия, немногим больше до Стамбула – Царьграда. К этому истоку своей духовности всегда поэтому стремилась Россия: к Балканам, к Софии, к Константиноплю… Точно также, как Западное христианство испытывало необходимость дойти и коснуться рукой гроба господня, точно также и русская православная культура испытывала необходимость дойти до храма Святой Софии в Стамбуле, чье великолепие, если верить легенде, стало той точкой поворота, от которой в 988 году началось развитие русского христианства. Так что мы должны всецело оправдать Достоевского с его: „Константинополь должен быть наш”!
Крестоносцы, как мы знаем, добились своего и уже во время первого крестового похода в 1099 году вошли в Иерусалим, в то время как Константинополь никогда так и не стал нашим… И выглядит это странным: Берлин был взят, и даже трижды [1], Париж в марте 1814 года также видел на своих улицах казаков, а вот Константинополь – такой важный в духовном отношении город, взят так и не был. Что за слабость русского оружия? И это при том, что в 1878 г. русские войска подошли к нему на расстояние 10-12 км. и разглядывали его невооруженным глазом. Александром ІІ уже был отдан приказ о его штурме и вместо этого все закончилось Сан-Стефано. Почему? Дотошные историки говорят, что виновата английская эскадра, появившаяся в Мраморном море. В религиозной литературе я встретил горькое мнение, что, дескать, Провидение не позволило случиться этому за грехи наши, что еще не пришло время, но придет в будущем [2].
Провиденциальной причиной того, что русские войска от стен Константинопля повернули обратно, было то, что русский дух уже не нуждался в захвате этого города. Можно сказать, что в этом пункте он успокоился или даже стал равнодушен к идее овладеть этим святым для него местом. Можно, конечно, посмеяться и сказать, что Босфор и Дарданеллы никогда никого не оставляли и не оставят равнодушным. С практической точки зрения геополитики это верно. И все европейские народы всегда живо интересовались и будут интересоваться стратегическими проливами. Но мы говорим о духовной причине. И поэтому только у России по этому вопросу всегда была и особая сентиментальная тяга. И вот можно сказать, что духовная причина в момент этого пребывания русских войск у стен Царьграда – отпала.
ІІ
В 313 году Миланским (Медиоланским) эдиктом христианская религия уравнивается в правах с остальными религиями и с этого момента начинается ее быстрый восход и превращение в государственную. В 330 году Константин переносит столицу Римской империи из Рима в Константинополь. Феодосий І окончательно закрепляет этот процесс, превращая христианство в единственную религию и запрещая языческие культы.
Христианская идея, следовательно, начинает свою жизнь и развитие на почве античного мира и в лице византийской культуры на почве греческого. Что представляет собой греческий дохристианский дух хорошо известно – это дух, который для своего самосознания использует форму красоты или проще говоря искусства. Греческое искусство уникально тем, что именно в нем впервые в истории человечества искусство становится предельно духовным. Это происходит за счет одновременного развития содержания и формы искусства. Развившийся дух в качестве содержания находит и самую адекватную форму для своего изображения – человеческий облик. Благодаря этому духовное впервые засияло в человеческой культуре, создало светлый, вырванный из животности природы мир. Благодаря этой максимальной адекватности внутреннего и внешнего греческое искусство достигает идеала и получает наименование классического. Класичность, т.о., очищает и возвышает чувственность, одухотворяет, но дальше чувственного явления духа оно пойти не может по определению. Поэтому греческое античное сознание вовсе не перестало быть привязано к предметности образа, к непосредственности духовного. И вот на этой почве начинает строиться совершенно новый мир, который требует уйти с почвы конечного во внутренний мир бескрайнего. Вся история христианства есть этот процесс ухода от формы античного понимания духа к истине внутреннего откровения.
Болгария, как исток славянской культуры, получает свой исторический импульс благодаря непосредственной близости от Византии, т.е. именно от этой формы христианства, где еще живо воспоминание об античном идеале, где идея абсолютного триединого бога накладывается на идею классической красоты. Вся болгарская культура поэтому, с одной стороны, становится христианской, но с другой воспринимает в себя и эллинский принцип прекрасного. Хорошо известно, что красота греков выражена как прекрасная индивидуальность, гармонично строящая свое бытие, находящая во всем меру, которая позволяет реализовываться радости жизни в ее ежедневности: труде, заботе о доме, семье, отдыхе. Культ этой религии есть простое наслаждение жизнью в ее духовной простоте, без ухода в крайности: „Культ Вакха, Цереры есть обладание, потребление хлеба, вина. Поглощение их, следовательно, само непосредственное удовлетворение. …Вино выпивается, мясо съедается, приносится в жертву и уничтожается единичное наличное бытие и проявление природной силы. Есть – значит жертвовать, и жертвовать – значит съедать. Таким образом, со всей жизнедеятельностью связывается этот высший смысл и это потребление: всякое дело, всякое потребление в повседневной жизни есть жертва. Культ – это не отречение, не принесение в жертву некоторого владения, своеобразного достояния, а идеализированное, теоретико-художественное наслаждение. Свобода и духовность выходят за пределы всей повседневной и непосредственной жизни, и культ вообще выступает как непрерывная поэзия жизни”[3]. Болгария являет нам примеры этого удивительно гармоничного восприятия мира в своей архитектуре, народном фольклоре, самом отношении к жизни, к трапезе, к виноградной лозе, к вину, к веселью, к танцу, в своих светлых характерах – болгары это по сути Олимпийские боги, принявшие христианство и переселившиеся с Олимпа на Пиринские горы, „Стара Планина и Рила”, но не изменившие своей давней привычке получать удовольствие от жизни, но удовольствие не грубое и животное, а светлое и человеческое. Болгария, как мы уже это отмечали раньше[4], это славянская Эллада. Понять, что дух Болгарии основан на этих двух принципах очень важно, ибо без этого ее культурное своеобразие, ее очарование, ее „чар” остаются совершенно неоцененными и непонятыми. Христианство и на Востоке, и на Западе было воспринято многими языческими племенами и народами, но далеко не все успевали развить в себе и эту способность классического отношения к миру. Болгария успевает развить их оба. Мы знаем как ценил греков Гете, а один из его современников, развивая восприятие Гете, высказался о греках, что они являются самым человечным народом: „Греки – самый человечный народ: все человеческое здесь утверждено, оправдано, развито и имеет меру. Эта религия вообще является религией человечности… В этой религии нет содержания, которое не было бы знакомо человеку, которое он не находил бы в себе самом, не знал бы. Доверие человека к богам есть в то же время его доверие к самому себе”[5]. Все это мы можем отнести и к болгарскому народу, с той только разницей, что болгарский дух оказывается еще выше и еще человечнее, ибо Христос еще более человек, чем Зевс или Аполлон.
Эта сосредоточенность на одухотворенности прекрасного, являющаяся бесценным подарком человечеству мира подлиннной красоты, как реализованного идеала, в качестве состояния сознания проявляет себя у греков не столько в субъективном осознании нравственных принципов, сколько в их скорее созерцании и чувствовании, в следовании традиции, в наслаждении чувством национального единства. Рефлектирование этой нравственности скорее губительно для нее. Такой тип духа целостен и гармоничен, ему не свойственна борьба и раздвоение, мучительный поиск ориентира. Ориентир уже дан – это солнечное, радостное единство со своей культурой, народом, природой, вообще миром. Внутренний мир человека здесь выявлен во-вне, субъективное, самостоятельное „я” человека, как результат рефлексии здесь не развито и мы видим ее развитие и становление только на примере „демона” Сократа [6]. Эта несосредоточенность духа на себе самом у греков проявляется как неуверенность сознания в себе при принятии важных жизненных решений, благодаря чему дух нуждается для этого во внешних знаках природы: шуме листвы, полете птиц, толкованиях предсказателей и оракулов: „…В этих случаях греки при всей их свободности еще не руководствовались в своих решениях субъективной волей. Военачальник или сам народ еще не принимал на себя ответственности за решение вопроса о том, что в данном случае полезнее для государства, и точно так же не принимало на себя ответственности и отдельное лицо в своих семейных делах. В отношении этих решений греки прибегали к оракулам, жертвенным животным, предсказателям или, как в особенности римляне, искали совета в полете птиц. Полководец, желавший дать сражение, должен был черпать свое решение во внутренностях жертвенных животных, как мы это часто находим в «Анабазисе» Ксенофонта. Павсаний мучается таким образом в продолжение целого дня, раньше чем отдать приказ начать сражение. То обстоятельство, что, таким образом, народ еще не решает сам, а дает определять свои решения внешнему факту, составляло существенное условие греческого сознания; как и вообще оракулы нужны всюду, где человек еще не знает своей внутренней жизни, достаточно независимой и свободной, чтобы как у нас, черпать свои решения лишь из самого себя. Эта субъективная свобода, еще не существовавшая у греков, есть то, что мы разумеем в настоящее время, говоря о свободе; …Что мы хотим стоять за то, что мы делаем, — это черта современной эпохи; мы хотим принимать решения, руководясь основаниями благоразумия, и считаем эти основания чем-то окончательным. Греки еще не обладали сознанием этой бесконечности”[7].
То, что Болгария частично сохраняет в себе этот момент выражения формы прекрасного подтверждается тем, что она имеет и своего известного оракула. Его имя не нужно напоминать. Это знаменитая пророчица Ванга, живущая на самой границе с Грецией и носящая греческое, православное имя. Во весь период ее жизни к ней всегда был устремлен огромный поток посетителей, что свидетельствует как раз о том, что людям был необходим этот момент внешнего одобрения своих собственных решений. Специфика этой славянской Эллады, т.о., состоит в том, что она уже не является языческой, но впустившей в себя и принцип религии откровения. Вот именно в этом виде, сохраняя в себе сильный момент непосредственности духа, христианская религия быстро овладевает языческим миром античности, а затем и восточного славянства и становится господствующей религией, благодаря созданию славянского независимого алфавита.
Здесь мы бы могли поставить точку, отдавая заслуженную дань Болгарии, восхищаясь красотой ее земли и ее людей, ее верностью духу античности и православия, которые она сохранила и до сей поры и которые она передала в наши руки. Однако, здесь мы сталкиваемся с проблемой прочности этой культуры. Если она так истинна в себе, то она должна была уметь отстоять свою необходимость. Но к концу четырнадцатого века почти все духовные сателлиты Византии, включая и Болгарию, уже находятся под властью турок. А в 1453 году они захватывают и сам Константинополь и греческому христианству приходит конец. Турки стремятся и на Запад, но им удается дойти только до Вены. Возникает вопрос – является ли случайным, что именно православная форма христианства оказывается менее жизнестойкой? Почему католицизм сохраняет свою независимость и свободу, а православие нет? Конечно, и падение Константинополя и поражение турок в Венской битве в 1683 году можно истолковывать из внешних причин: дескать разложение византийской знати, борьба за престол, упадок ремесел и обнищание масс стали причиной падения Византии… А что в Западной Римской империи разве не было борьбы за престол? Или, сообщается, что под Веной турки потерпели поражение потому, что они просто не успели перегрупироваться, а также прежде всего благодаря помощи поляков [8]. Т.е., согласно этой логике и в падении Византии также были виноваты поляки, так как они не оказались по-близости в нужный момент. Т.е., такие эмпирические исторические констатации ничего не объясняют. Духовную причину пытаются дать религиозные историософы. Они считают, что Византия пала, так как изменила православию и господь руками магометан покарал ее, также, как он покарал и Россию в 1917 году [9]. Это второе объяснение намного лучше, но также слишком абстрактно – все происходит по воле господней и простое указание на это, пока что нам ничего особо не проясняет. Следуя этой логике, мы должны тогда задаться вопросом: в таком случае получается, что католицизм оказался более верен православию, нежели само православие, раз Господь дал силы католицизму защитить себя? Как известно, после битвы под Веной, герой победы польский король Ян Собеский перефразировал изречение Юлия Цезаря, сказав: «Venimus, Vidimus, Deus vicit» – «Мы пришли, мы увидели, Бог победил». Иными словами, факт того, что католицизм добивается победы там, где православие терпит поражение, должен быть свидетельством духовного превосходства католицизма, некоего прогресса в его духе. Но какое может быть у католицизма духовное превосходство, кроме внешних незначительных для идеи различий, если католицизм и православие близнецы-братья, рожденные от одной матери? Неужели только то, что в приготовление хлеба для просвиры или как говорят католики гостии, не кладут дрожжи помогает католикам прогнать турок обратно на Балканы? Или добавление „филиокве”, признание того, что святой дух исходит также и от сына становится более богоугодным?
Но как бы ни было Провидение разгневано на Православие, тем не менее оно не сводит его совершенно с исторической сцены, а отправляет, как Август Овидия, на изгнание в провинцию. Долгое время оно живет где-то на задворках мировой истории, но постепенно стягивает и организует себя в государственное целое и с приходом Петра І начинает делать первые самостоятельные шаги на арене, где сталкиваются интересы цивилизованных государств. Мы оставим здесь в стороне первые Петровские пробы пера на юге и на севере и обратимся сразу к большей определенности разумного в русской истории – к девятнадцатому веку. В 1812 году Наполеон переходит Неман, впервые стремясь приобщить Россию к новым европейским ценностям либеральной демократии. Но русские упорно не желают принимать свободу из чужих рук и предпочитают кодексу Наполеона крепостное право. В итоге Александр Первый лично отвозит этот кодекс обратно его владельцу в Париж. В этой войне, однако, русские войска первоначально не находят сил для того, чтобы защитить духовное сердце своего государства и сдают Наполеону Москву – эту столицу современного византийского христианства, хотя этот захват и окажется для французов в итоге поражением. Вообще в этой войне сам Наполен едва ли понял какую миссию он выполнял в России, к чему он был призван вторгаясь туда. Ибо, привычные ему сценарии ведения войны в России не сработали. Его никто не ждал в опожаренной Москве, с ним никто долгое время не хотел сражаться, с ним не велось никаких переговоров. Ему приходилось гоняться за своим противником и искать его. Но Наполеон выполнил свою миссию. Он занес в Россию эстафету мировой истории. Как ни уклонялась Россия от этого гонца, ей пришлось впустить его в свой Кремль… Продолжением этого импульса было то, что к концу этого века Россия набирается, наконец, необходимой решимости для освобождения православных народов от турецкого гнета. Но дойдя до стен Константинопля и посмотрев издали на минареты мечетей, русские неожиданно для самих себя поворачивают обратно, а на проведенной спустя несколько месяцев Берлинской конференции результаты русской победы и права освобожденных славян значительно урезаны. Желание России продолжить эту линию православного единства славянских народов приводит ее к Первой мировой войне, которая заканчивается для нее плачевно – распадом государства. Православная идея в который раз не может защитить себя – теперь уже и в России.
В первый раз господь наказывает православных руками магометан, в этот же раз внутри России находятся свои собственные магометане – большевики. Они не с меньшим, чем настоящие мусульмане пафосом рушат свою собственную религию. Вместо религии Аллаха, однако, насаждается и вскоре утверждается самоуверенно претендующая на научный статус теория, замешанная на позитивистских предрассудках и тенденциозно набранных из философии представлениях. Убежденные в своей безусловной правоте, основанной на „праве научности”, адепты новой веры начинают строить расползающуюся империю заново. Вопреки всем проклятиям и пророчествам расшатанная и расползающаяся Россия оказывается стянута обручем этой идеологии, верующей в науку, как в господа, но манипулирующей этой „наукой” исключительно в угоду политическому моменту. Наукой не занимаются, ею заклинают.
Проходит чуть более двадцати лет и к Москве, по дороге, которая еще не успела забыть поступь солдат Наполеона, устремляются новые, оснащенные новейшими видами оружия, наследники Западной Римской империи. В этот раз русско-советские войска не сдают ни старой столицы, ни тем более Москвы. Истекая кровью, советское государство находит силы оправиться от шока и постепенно организует себя в мощь способную дать адекватный отпор. К концу 1944 года вся территория Советского союза освобождена и войска Красной Армии устремляются на Запад. Предвидя это развитие событий, в июне 1944 года Америка и Англия также устремляются в Европу, пытаясь опередить накатывающуюся армию с Востока. Однако, в этот раз „английские эскадры” не смущают русских. Они не собираются от стен Берлина поворачивать обратно, как это было в Константинопле. В Ялте Сталин диктует свои условия так, как этого не делал ни один из русских императоров. Все старания Черчилля и Рузвельта ограничить влияние СССР в Европе не могут помешать этому триумфу советского оружия. Сталин получает если не все, то почти все, что он намечает. Такого европейского и мирового влияния Россия не имела никогда! Вне всяких сомнений 1945 год это звездный час России во всемирной истории!
Из какого же духа происходит эта величайшая по своим результатам победа? Внятного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Историки как всегда находят особенные причины: снова кто-то где-то не перегруппировался, Гитлер не послушал Гудериана и отклонил войска на Кавказ, не выслал теплые вещи, смазка была летней у танков и т.д. Или, бытует мнение, что все в сталинском государстве было основано на страхе и заградотрядах. Религиозная мысль находит возможным обнаружить в этой Победе православный дух. Дескать, в трудные минуты ушла наносная идеология, отлетела и выступила истина православной идеи для народа. Вспомнил Сталин свои юные семинарские годы, проклял внутренне марксизм-ленинизм, и обратился к церкви и через нее к народному духу православному, и это-то и дало силы русским солдатам. Безусловно, что этот религиозный момент, в этот труднейший период был Сталиным оживлен и внес свою лепту в этой войне. Но предполагать, что дух православной религии является единственно определяющим состояние советской армии и всего народа, что именно из него он черпает силы для сопротивления и дальнейшей победы – по меньшей мере наивно. Мы видели, как этот же самый дух ранее не смог защитить себя ни в Константинопле, ни в Софии, ни в Белграде, ни в Первой мировой войне, ни от смуты гражданской войны. Какие же тогда основания предполагать, что в этот раз, когда уже несколько десятков лет религия была фактически устранена из духовной жизни народа, это именно нашему религиозному духу удалось поставить под свой контроль половину Европы?
ІІІ
Чтобы ответить на этот вопрос, как и на те, которые мы обозначили выше, необходимо обратиться к философии всемирной истории. Данное понятие „философия истории” достаточно популярно, но им обычно именуют все общие рассуждения на историческую тему. Поэтому, чтобы избежать путаницы, мы обратимся к религиозному, провиденциальному взгляду на историю, который ближе всего к подлинной философии истории. Он заключается в убеждении, что в истории присутствует воля божья, называемая провидением. Именно воля всевышнего, согласно этой логике, решает падет ли Константинополь, Вена или Берлин или же не падет. Случится ли в России или Болгарии иноземное иго, или же нет… То есть, вместо эмпирической истории, которая готова все объяснить рядом случайных совпадений, религиозный взгляд на историю более духовен. Он не считает историю ареной бессмысленных страстей, игрой одного лишь случая, но предполагает, что в истории содержится и некая высшая цель, что ход истории закономерен, что творец знает зачем все происходит или иными словами христианство верит в то, что исторический процесс совершается не всецело хаотично, но и разумно-необходимо. Эта точка зрения очень хорошо известна. Однако, как правило, все и заканчивается подобным соображением. Что, дескать, да, все задумано господом, все ему подчинено и в природе, и в истории. И мир, и войны и болезни – все это ему ведомо и подведомствено. Но вот в чем же состоит этот замысел бога конкретно, каков этот план бога, согласно которому развивается история – определить мы не можем. Как сказал Максимилиан Волошин: „Нам ли весить замысел Господний?”[10]. То есть, таким образом, утверждается, что замысел есть, но знать нам его не дано. В противоположность этому взгляду мы должны сказать, что христианская историософия не останавливается скромно и стыдливо у самого порога своего поиска разума в истории, а давно уже раскрыла историческую волю всевышнего. Иначе это не была бы христианская религия. Так как абстрактное знание о присутствии судьбы в истории имелось уже в языческой Греции. Поэтому простое заявление об этом, без конкретного раскрытия содержания провидения по сути противоречит христианству и есть языческий взгляд. Христианская же историософская позиция оказывается очень высокой точкой зрения – это не слепая вера в разумное могущество Господа, а внутренняя убежденность, основанная на знании этого господа, на знании этого высшего разума. И как познает православная религия этот разум хорошо известно. Она знает его как Святую Троицу! Следовательно, разумная вера в историческое провидение и есть эта вера в Святую Троицу. То есть, разум в истории православная религия знает также как эту Святую Троицу! Фильм Андрея Тарковского „Андрей Рублев”, есть поэтому именно историософское кинематографически выраженное желание утвердить мысль о разумности процесса русской истории!
Но в чем же состоит разумность Св. Троицы в христианстве, которая снискала ему такой успех и такую славу? Разумность ее состоит в том, что христианский бог раскрывается ею не как абстрактное единое, как, скажем в магометанстве, а как единое необходимо различенное в себе самом. Христианский бог оказывается вечным процессом жизни бога в своем различении себя в себе самом на живые моменты, через которые он проходит. Вечность его, понимаемая как „слово”, как единство всего и вся, различает себя от себя самого и создает бренный и конечный мир, полагая, таким образом ужасное противоречие. Но через посланного им сына он снимает эту боль раздвоения и возвышаясь до духа он возвращается к себе и этот процесс и есть сам христианский разум: бог-отец, бог-сын и бог-дух! Святая Троица, таким образом есть абсолютно разумное и абсолютно необходимое понятие! Это не наш субъективный выбор – верить или не верить в Святую Троицу – это закон вселенной! Если ты хочешь быть разумным ты должен верить и знать бога как триединого, как Троицу – ибо это сама природа разума!
Христианский разум (который есть всеобщий разум), определяя себя в три необходимых момента как Святая Троица, на этом отнюдь не останавливается, ибо это есть только первое самое абстрактное разумное положение. Христианская мысль идет далее и показывает, что Святая Троица есть бесконечно глубокое понятие. Глубина его состоит в том, что впервые в истории предметом веры здесь выступило понятие разума определенное в себе самом. Так, как мы уже указали, во всеобщность разума верит и магометанство. Но бог в нем, как и в более ранних религиях, поднимавшихся до всеобщности, никогда не имел разумной определенности в себе. Здесь же триединость бога есть его необходимая определенность в себе самом. Его определенность в эти три момента есть абсолютное умозаключение. Не умозаключение нашей с вами рассудочной способности, выраженное формальной логикой в видах умозаключений: индукции, дедукции и аналогии, а абсолютное умозаключение: бог-отец, бог-сын и бог-дух, есть абсолютное и необходимое умозаключение абсолютного, божественного разума, где он заключает не о чем-то, а где он умозаключает себя самого и через себя самого и это умозаключение есть способ бытия абсолюта! Христианский бог существует, шествует именно через этот круговорот своих моментов. Умозаключение, понимаемое в обычной логике, как пустая форма в действительности оказывается наполненным богатейшим смыслом. Сказать, что умозаключение есть пустая форма все равно сказать, что христианский триединый бог, Св. Троица есть пустая форма! То есть, христианская религия оказывается в себе абсолютным разумом, поскольку разум в своей всеобщей определенности есть сам основной предмет ее веры! Что и записано в самом символе веры этой религии [11]. Именно поэтому логика разума, понимаемого как всеобщий и была внутренним ядром христианской веры и в итоге абсолютная логика оказалась очищена от этого варварского понимания разума как только формы. Мышление убедилось, что умозаключение есть способ бытия всего разумного как в субъективной, так и в объективной сфере. Все разумное есть умозаключение. Когда мы утверждаем подобное, нужно отбросить то представление, которое мы имеем из формальной логики об умозаключении, услужливо нам подсовываемое памятью. Здесь речь идет не о рассудочном, а о разумном умозаключении и если уж нам так хочется представить его, то самое подходящее и есть как раз представление о христианском триедином боге. Это и есть самое верное представление о разумном умозаключении! Умозаключение есть смыкание содержания с самим собой в результате различения себя на разумные моменты, которыми оно себя и определяет к разумности существования от неразумности неопределенности абстрактного единства или же неразумного распада на множественность. Скажем, разумное государство со стороны его внутреннего права есть умозаключение, как единство исполнительной, законодательной и президентской власти. Там, где умозаключение может быть выявлено и показано, разумное, следовательно, уже развито. Где нельзя указать его – разумное еще в себе. Например, там, где государство имеет в себе более этих трех разумных центров власти, или же менее – разум его не выработан. Или если в государстве нет, как теперь говорят „среднего класса”, а есть только правящая аристократия и земледельческий класс – среднего опосредующего термина в таком государстве недостает и поэтому оно не есть умозаключение, а лишь „суждение”. Природному отношению полов также не будет доставать формы разумности до тех пор, пока к двум крайним терминам: мужской и женской особи не добавится третий – потомство и т.д. В этом смысле все разумное есть умозаключение. В субъективной же части логики философия показала, как умозаключение доходит до этой стадии самоопределенности в себе самом в умозаключении необходимости [12].
Имея, таким образом, этот критерий – Святую Троицу, как абсолютное умозаключение, христианская мысль вскоре создает целую систему христианской мысли, развитой из понятия Святой Троицы. Согласно этой системе каждый момент Троицы определен как в отношении двух других, так и в себе самом: система этой христианской мысли начинает с царства Отца, затем переходит к царству Сына и заканчивает царством Духа [13]. Но особенностью Святой Троицы является то, что она есть неделимое, везде нераздельна – она органична и нигде мы не можем изолировать один момент от двух других. Даже если мы рассматриваем сферу определенности только одного момента, скажем царство Сына, то казалось бы два других царства Отца и Духа мы оставили в стороне, но это иллюзия – они все три присутствуют и в царстве Сына. Разорвать Св. Троицу невозможно! Ибо, если бы мы могли это сделать, то тогда христианство бы веровало в три бога, а не один!
Как нетрудно заметить, царство Духа выступает как результат, как высшее развитие понятия Святой Троицы – только после воскресения Христа. И вот, когда христианская мысль работает уже над систематическим развитием теперь уже царства Духа, когда царство довременного бытия Отца и положенное во времени царство Сына пройдены, христианская мысль также должна иметь в виду, что на ступени развития Царства Духа Святая Троица уже полагает себя в форме возвышенной до духа. Это означает, что определениями уже являются не определения „отца”, „сына” и „святого духа”, а определения царства субъективного, объективного и абсолютного духа! Троица, таким образом пронизывает всю сферу духа, но высшей своей развитости она достигает только в Царстве Абсолютного духа. Это царство определено как царство прекрасного, царство откровения и царство истины.
Вот имея этот критерий Св. Троицы на высшей ступени ее развития, в царстве Абсолютного духа, мы теперь можем более определенно заявить о присутствии разума в самой истории.
Мы видели, что царство прекрасного, разума как красоты, выступает впервые в Греции и нет ничего более прекрасного, нежели греческий дух, отразившийся, как мы видели и на культуре Болгарии. Далее мы видим, что момент Троицы уже в качестве религии откровения также начинается на античной почве, в той-же Греции, но далее византийское христианство уступает магометантству и развитие религии откровения частично откатывается на русский Восток, а ее преимущественное развитие совершается в Европе, в католичестве и затем протестантстве.
Таким образом, общий рисунок Провидения, этого великого замысла бога о человечестве уже начинает проступать перед нами: этот великий замысел есть подчинение всей всемирной истории царству Св. Троицы. И первые ее два момента мы уже нащупали в истории: царство прекрасного реализует себя в истории античной Греции, а царство откровения в истории христианских церквей. Остается, следовательно, найти в истории царство Истины.
И вот здесь мы сталкиваемся с двумя основными трудностями.
Во-первых, может статься, что царство Истины вообще еще не наступило в истории. Это может быть вполне возможным. Так, например, до греков, ведь не было в истории царства развитой прекрасности? Или царства христианского откровения. И одно, и другое пребывали только в возможности. Поэтому может статься, что и царство Истины также просто еще не выступило в истории и его нужно просто дожидаться.
И во-вторых, нам может прийти в голову соображение, что царству Истины вообще нет места в истории и дожидаться его бессмысленная задача. Ведь оно – царство абсолютной истины, не дано чувственно-эмпирически, объективно-исторически, а есть плод умозрения. Поэтому, дескать, история, как сфера конечного может нам дать только царство красоты и откровения, ибо в них самих содержится чувственный момент, втягивающий их в царство конечного. Поскольку же царство Истины всецело спекулятивно, очищено от всякой конечности, „сняло ее”, то оно и не имеет и не должно иметь собственного исторического, объективного момента, а есть лишь выражение в мысли эпохи искусства и религии. Т.е., объективный момент царства Истины совпадает с объективностью самих искусства и религии [14]. Для обладаниея ею к тому же необходима специальная подготовка, методология. Истина поэтому доступна только для специально подготовленных к ее восприятию и есть таким образом притежание замкнутой касты мудрецов или философов.
Против этого можно выдвинуть как минимум три возражения:
1. Если мы обратимся к царству природы, то уже там мы с легкостью находим как Св. Троица, в качестве умозаключения полагает себя в необходимости своих трех моментов, скажем различая себя на геологический организм, растительный и животный. Или в самом животном организме, как нервная система, кровеносная и пищеварительная. То есть, если понятие уже на ступени природы способно положить себя как разумное триединство, то почему же мы можем сомневаться, что на ступени объективного духа оно обессиленно положит себя только двумя моментами абсолютного? Ведь уже на ступени государства, как мы это указали, умозаключение развито в три момента. Тем более это должно касаться всемирной истории.
2. Если же мы теперь обратимся к логике, то и там мы найдем подтверждение необходимости собственного объективного момента для царства Истины. Так, если мы возьмем всю сферу понятия, то она в себе определена как субъективное понятие, объективное понятие и идея. Идея, как самое конкретное есть единство понятия и его реальности. И идея как непосредственная есть жизнь. Но как положенная идея, в качестве суждения она есть познание. Познание имеет теоретическую и практическую стороны. Это есть субъективная и объективная формы идеи. Теоретическое познание, начиная рассудком, через доказательство выходит к форме необходимости. В последней мышление уже имеет дело с самим собой: „Необходимость как таковая есть в себе соотносящее себя с собой понятие. Субъективная идея в себе, таким образом, пришла к в-себе и для-себя определенному, к не-данному и потому имманентному ей как суъекту. Она переходит к идее воления” [15]. Объективная, практическая идея стремится реализовать субъективную необходимость разумного в самом объективном мире, исходя из того, что мир не соответствует ей. Однако, такое представление само по себе конечно. Сам раскол идеи на эти два момента является свидетельством их ограниченности, поэтому и разумная цель как реализуется в нем, так и остается нереализованной. Ее практическое полагание есть всегда деятельность лишь рассудка. Конечная цель этого полагания, т.о., заключается в выходе за это противоречие и в осознании того, что разумная цель в мире сколь нереализована, столь и уже реализована: „Подлинную сущность мира сооставляет в себе и для себя сущее понятие, и мир, таким образом, сам есть идея. Неудовлетворенное стремление исчезает, когда мы познаем, что конечная цель мира столь же осуществлена, сколь и вечно осуществляется. …Благо, конечная цель мира, есть лишь постольку, поскольку оно постоянно порождает само себя…” [16].
Через это противоречие практическая идея возвращается к теоретическому отношению и снимает эту рефлексию идеи – от ее суждения, таким образом переходит к форме умозаключения, давая единство теоретической и практической идеи: „Эта жизнь, возвратившаяся к себе из различенности и конечности познания и ставшая благодаря деятельности понятия тождественной с ним, есть спекулятивная, или абсолютная идея” [17]. Данное движение к форме абсолютной идеи, таким образом, в моменте познания имеет своим началом рассудочную деятельность в теории и практике и разумное выступает лишь в конце, как результат взаимного опосредствования теории и практики.
3. В 1921 году Софию посетил Иван Александрович Бунин. Он прожил здесь почти месяц, намереваясь поселиться в Болгарии, но затем по приглашению семьи Цетлиных уехал в Париж. Об этом Бунин сообщает в своем автобиографическом очерке, который он назвал „Гегель. Фрак. Метель.” Образ метели в русской литературе достаточно популярен. Бунин его заимствует у Блока. Но если у Блока метель русской истории, русской революции и все, что за ней последует, поднята духом идеи Христа: „В белом венчике из роз…” [18], то в заголовке Бунина метель русской истории поднята вовсе не духом христианства, ее возглавляет не Исус Христос. Впереди двенадцати пролетариев-апостолов, в получившейся у Бунина метафоре, шагает отнюдь не Христос, а Гегель!
Как хорошо известно, Гегель сочетал в своем учении достижения христианской религии и традицию независимого и свободного философского знания. В его лице история впервые осознала со всей отчетливостью, что предмет христианской веры есть само понятие. И, раз христианство верит в умозаключение разума, в виде представления о Троице, то, следовательно, сама Троица требует развить весь ее разумный потенциал далее. Свои религиозные представления о себе, она требует представить более спекулятивно и умозрительно. Гегель поэтому, ведомый самим разумным пафосом христианства, придал религии откровения форму метафизической необходимости. Образный и потому двусмысленный характер библейских истин он переложил на язык чистой и абсолютной мысли. Гегель показал, что богословие, кроме того, что не может расстаться со всей пестротой художственной образности Библии, не может выйти за пределы рассудка и там, где оно начинает рассуждать об истинах веры более спекулятивно. Не может потому, что пользуется формой мышления некритически. Вся богатая история логического разума, как история философии не берется в расчет, по причине того, что мышление принципиально укоренено в точке зрения непосредственного знания, „внутреннего созерцания”. Поэтому все его заверения относительно границ познания, пределов мысли перед истиной откровения и т.д. не стоят и ломаного гроша, ибо их делает не изучившее себя само в полной мере мышление. И только это незнание себя и идущая от этого неуверенность, приводит к тому, что само мышление налагает на себя эти ограничения. Поэтому, истинной формой богословия ныне, является философия. Только она дает предельную форму богопознания: „Многие теологи, занимаясь экзегезой и считая, что они только воспринимают, не знают того, что при этом они деятельны, что они рефлектируют. Поскольку это мышление случайно, оно отдается во власть категорий конечности и тем самым неспособно постичь божественное в содержании; в таких категориях развертывается не божественный, а конечный дух. Следствием этого конечного понимания божественного, того, что есть в себе и для себя, следствием этого конечного способа мыслить абсолютное содержание было то, что основные положения христианского учения в значительной степени из догматики исчезли. По существу ортодоксальной теперь является философия – не только она, но она главным образом; именно она утверждает и сохраняет те положения, те основные истины христианства, которые всегда имели силу” [19].
Естественно, что подобные заявления всеми тремя формами исторического христианства: православием, католицизмом и протестантизмом были и продолжают быть объявленными непомерной гордыней и бесплодными притязаниями ограниченного человеческого разума. Декларируемое самой религией единство бога и человека запирается только в сферу случайности чувства. Единство божественного и человеческого разума не принимается и не понимается, как будто-бы в мире существуют два разума! Необходимость спасения человеческой души, таким образом, отдается на произвол чувства, а не ставится на твердую почву необходимости мышления, понимаемого как абсолютное. Чтобы преодолеть эту историческую твердолобость рассудка, истории поэтому пришлось пуститься на „хитрые” практические действия. Каким образом это произошло, видно уже из метафоры Бунина. Гегель был вброшен в мировую культуру не столько теоретически, сколько практически. Его метафизика взорвала современный мир чередой европейских революций и двумя мировыми войнами и этот процесс еще далеко не закончен. Все современные события мировой истории также продолжают оставаться в связи с духом этой философии. Это перепахивание мира имеет своей причиной то обстоятельство, что чисто теоретическое влияние Гегеля, хотя и имело невиданный по масштабу характер, тем не менее для более глубокого проникновения в саму ткань истории оказалось крайне недостаточным. Его влияние зачастую имело характер внешнего, модного увлечения. Поэтому идея философского знания была привнесена в мировую историю через марксизм, где марксизм сам был лишь посредником, не осознающим в полной мере целей и масштабов этой великой исторической задачи. Марксизм упростил идею философии спекулятивного разума до плоской и примитивной философии диалектического и исторического материализма. Но благодаря этому она стала доступна эпохе и проникла в нее, хотя бы и в этом вульгарном варианте, сохраняя свою сокровенность только лишь в общем пафосе разумного переустройства мира и научного, философского обоснования этого. К какому же моменту „троицы”, к какому „царству” нужно отнести этот период мы теперь оставим право определить самому читателю. Противники такого толкования коммунистического периода мировой истории не видят разумного, метафизического смысла этой эпохи. Непосредственную связь этой эпохи с философией Гегеля они объявляют случайной, мотивируя тем, что Гегель в этой эпохе не понимался, а искажался в угоду практической пользе. От практического момента идеи, они таким образом требуют полного абсолютного момента, что есть непонимание самого требования логики. Далее они говорят, что необходимость объективирования метафизики, ее практическое полагание никак не следует из самого Гегеля. Система его завершена в своей спекулятивности в себе самой и никак из нее не следует необходимость ее практического полагания [20]. Ошибка этих критиков состоит в том, что необходимость эта не следует из момента абсолютной идеи в ее высшем пункте, а лишь из ее волевого момента, когда она еще неабсолютна. Это исторический рассудок захватывает систему Гегеля в объективность и это уже состоялось в самой истории. Объявлять случайностью этот факт непосредственной связи системы Гегеля с мировой историей и русской историей по преимуществу – означает явное нежелание искать необходимое в истории этого периода вообще, нежелание видеть, что это есть необходимое опосредствование абсолютной идеи в ней самой. Идея блага непрерывно воспроизводит себя и было бы непонятно, если бы она не захватила в себя этой идеи всеобщей необходимости, которая субъективно была выражена Гегелем. Критики этого понимания, таким образом, видимо, не исходят из чистого интереса идеи в ней самой, а скорее от своего чувства, которое есть чувство антипатии к коммунистическому периоду и чувство пиетета к своей национальной религии. Т.е., будучи по форме даже философски настроенными, они в пункте понимания объективного разума не сходят с точки зрения непосредственности [21].
Таким образом, уже весь рисунок провидения получил все свои необходимые очертания, вся Святая Троица, в качестве моментов понятия абсолютного духа: искусства, религии откровения и философского знания легла своими определениями на ткань мировой истории. Думается, что нет необходимости пояснять, почему же Россия в 1878 году утеряла духовный интерес к Константинополю, как святому для своей религии городу. Потому, что она уже почувствовала новый призыв мировой истории. Вместо религии откровения уже пятьдесят лет в Европе и России набирал свою силу момент абсолютного познания истины в форме спекулятивной философии. Ясность и необходимость разума, как философски определенного в противовес неясности и случайности откровения, начала проникать в сознание мировой истории. И Россия почувствовала этот призыв, это веление. Долгие века православие не могло вырвать Россию из крепостнического рабства, но уже в 1825 году дух свободы поставил вопрос о конституции, основанной на разумных началах. Из этого пробуждающегося духа проистекает победа над Турцией. Внешне он еще закутан в одежды православия. Но тот же Достоевский оказывается уже более, чем только религиозно, православно мыслящим писателем, если он просит своего брата Михаила прислать ему собрания сочинения Гегеля, которые он собирается переводить на русский вместе с бароном Врангелем. Вряд ли нужно говорить о общем духе метафизичности, которым проникнута вся русская литература ХІХ века. „Совесть России” – Лев Толстой не писал бы кроме своих романов также и статью по философии искусства, не утверждал бы, что в эпоху его молодости „все опиралось на Гегеля”. Тургенев бы не посещал в Берлине лекции по философии Гегеля и по приезде не пытался бы стать преподавателем по философии [22]. Всего бы этого не было, если бы дух и совесть русской культуры не были бы так глубоко впечатлены мощью и величием идеи философского познания абсолютного.
Освободив братские славянские народы, Россия выполнила свою основную задачу – она вернула их в лоно славянства и вся славянская субстанция вскоре оказалась в сфере явления этого нового принципа – мы видим, что ось двух мировых войн проходит по линии соприкосновения славянских народов с германскими. Идея философского метафизического познания христианского абсолюта была выношена в Германии, но реализовать ее было суждено славянским народам. Потому, что западноевропейский мир объективно был всецело и глубоко укоренен в духе религии откровения и не был способен совершить этот исторический переход. Также, как в свое время античный мир не мог перейти от принципа красоты к духу откровения. Поэтому во влечении западного мира к востоку нужно видеть провиденциальную задачу передачи нового принципа на более непосредственную почву, где бы он мог укорениться более глубоко. Как это и произошло, как мы видим в России, а после 1945 года и в других славянских странах. Думается, что нет теперь нужды пояснять из какого духа происходит победа Советского союза в этой войне. Право какого духа признают Черчиль и Рузвельт в Ялте!
Таким образом, триединая форма христианского бога оказывается в себе религиозным выражением природы разума, развитого далее в его философскую форму. Абсолютный дух, как определение разума есть абсолютное умозаключение, выражающееся во взаимном опосредовании моментов искусства, религии откровения и философии, где они каждый по очереди играют роль среднего опосредующего термина: искусство в античности, христианство в средние века и Новое время и философия в начале ХІХ и в ХХ веке. Из этой определенности разумного теперь ясно, почему православный дух должен был проиграть магометанству. По той простой причине, что переход от царства античной красоты к царству откровения требует последовательного отказа от принципа искусства. Но мы знаем, что православие не желает отказаться от образности, от созерцательного художественного момента. Оно не может изжить его из себя, оно удерживает его в качестве определяющего момента в самой Византии и это становится причиной того, что магометанство оказывается сильнее, так как магометанство также является абсолютной религией и в нем момент откровения как откровения заявлен более решительно и последовательно. Оно резко отказывается от принципа искусства – всякие изображения запрещены в исламе и искусство там проявляет себя только как каллиграфия, т.е. акцент сделан не на образе, а на слове, что более соответствует всеобщности самого откровения. Католицизм особенно вначале, содержит не меньше пережитков искусства, нежели православие, а когда Рим захвачен германскими племенами их грубая первичность еще более овнешняет идею откровения. Но постепенно христианская идея проникает в их грубые души и истина откровения начинает разрабатываться с большей удаленностью от момента искусства, чему способствует допущение в религию такого теоретического момента как неоплатоническая философия, где разработке идеи Троицы уделено много внимания. Момент откровения, таким образом, приобретает в католицизме большую теоретичность, мышление более углубляется в себя и его большую устойчивость перед лицом магометанства здесь нужно рассматривать как выражение большего права мысли, перед правом образа! Тоже самое продолжается и после того, как хранительницей православной формы оказывается Россия. В то время как католическая мысль пытается дать разумное толкование понятию „Троицы”, что мы можем найти уже у Августина, русское мышление вершиной понимания „Троицы” имеет ее иконописный, художественный образ у Андрея Рублева… Эта же самая правота духа как мышления перед художественностью православия сказывается и в русской революции. Нам, как представителям православной культурной традиции может быть тяжело перенести этот факт исторической грубости, допущенной нашей собственной культурой по отношению к нашей собственной религии. Это обстоятельство приводит к тому, что большевиков пытаются представить какими-то чуждыми иноземцами, „немецкими шпионами”, или ищут иудейскую составляющую в русской революции и русском терроре. Но историческая правда такова: русское понимание идеи христианства в рамках нашей религии сдерживалось сильным моментом художественности, моментом красоты, который не был достаточно развит на нашей почве и потому крах отечественной религиозной формы был предрешен. Долгие годы в русском православии наш народ переживал одновременно и религиозную идею откровения, и художественную идею прекрасного. Русская культура в момент принятия в 988 году христианства по своему духовному уровню представляла собой такую ступень сознания, которая находилась на далеко доантичной ступени, на ступени, на которой форма красоты, как идеала, как гармонии внутреннего и внешнего нам была недоступна. Даже и сейчас русская эстетика еще далека от тонкости античного чувства красоты. Весь облик современной русской провинции глубоко печален в этом отношении. Языческие же славянские изображения, скажем Перуна или Даждь бога, это не Апполон или Афродита – это ступень не религии духовной индивидуальности, религии красоты, а ступень естественной религии в ее первых, начальных моментах – даже до египетской религии загадки или индуистской религии фантазии еще очень и очень было далеко. Поэтому, воспринимая христианство, русская культура сразу берется за усвоение двух задач – одновременное усвоение двух первых моментов абсолютного духа. Поэтому этот эстетический момент, в качестве необходимого и неразвитого и тлел всю историю нашего православия, они взаимно сдерживали друг друга – момент неизжитого понятия красоты не давал полного простора христианскому откровению, а христианский дух, наоборот, не давал свободы развитию русского эстетического чувства. Эта неизжитость момента красоты была поэтому и причиной долгих веков института рабства. Форма рабства необходимо сопутствует принцип красоты, как мы это видим в Греции или скажем в немецком нацизме, который вместо перехода вперед – к царству Истины, вернулся назад – в царство Красоты, где моментально начал трактовать иные народы как неравные арийцам. И только девятнадцатый век, дав России светско-философское понимание разумного моментально поставил вопрос о снятии института рабства. Идею христианской религии Россия, таким образом, впервые развивает до ее необходимой спекулятивности только в русской религиозной философии, когда уже русская духовная жизнь захвачена в момент развития идеи философии [23].
И поскольку мы начали данное расуждение с Болгарии, следуя за самой историей, где славянская культурно-историческая независимость и славянский дух начинается в Болгарии, и поскольку мы находимся в Болгарии, то и закончить мы должны также возвратясь к нашему началу. Мы видели, что практически все славянские народы оказываются вовлеченными в стадию объективного развития третьего момента абсолютного духа – философского. Философия, таким образом , является для славян не только миром всеобщего, как и для всех народов мира, но и тем же, чем для западно-европейцев христианская религия – знаком их особенности. И эта особенная связь славян с формой философии поэтому начинает отражаться уже с первых моментов своего становления – в период формирования своей письменности в болгарской культуре. Связанность с духом прекрасной индивидуальности приводит однако к тому, что в Болгарии философия первоначально оставляет не столько общие, сколько индивидуальные, единичные знаки: это, во-первых, наименование одного из братьев, создателей нашей письменности Кирилл-Философ. То, что у истоков нашего „слова” стоит „философ” есть исторический знак, показывающий метафизичность нашего исторического предназначения. То, что столица Болгарии получила наименование София также неслучайно – нет необходимости пояснять, какова близость этого слова философии, и это также является указанием на предназначение славянской культуры. В современности выражением этого индивидуализирования можно считать то обстоятельство, что, скажем вся система абсолютного идеализма в Болгарии оказалась переведена на родной язык силой одной прекрасной индивидуальности – Генчо Дончевым.
Другая сильная индивидуальность Болгарии – знаменитая Ванга, на первый взгляд никак не связана с философией, если не считать, что она родилась и жила у самой границы с Грецией и носит греческое имя. Ее имя Вангелия или Евангелия, т.е. „благая весть”. Т.е., Ванга – христианка. Но какую же иную благую весть, кроме христианской, она должна донести была всем славянским прежде всего народам, где она получила неслыханную популярность?
Ванга родилась в 1911 году и получает увереность в своем даре в ранней юности. За весь период ее жизни к ней за советом обращались тысячи людей, среди которых были и многие известные политики и деятели культуры. Существует легенда, что даже Гитлер советовался с ней перед нападением на Россию и получил отрицательный ответ. Но, вероятно, что это только легенда. Но нужно более внимательно отнестись к этой легенде. Столкновение Германии и России есть столкновение принципа культуры откровения с культурой, которой предстоит утверждать принцип права философского разума. И то, что народ приписывает Ванге предсказание права победы России есть осознание самим народом этого права, пока что в этой образной форме. Неслучайно, что Ванга начинает свою пророческую деятельность как раз в 1941 году, т.е. как раз в год нападения Германии на Россию. Неслучайно, что именно в коммунистической Болгарии, Ванга приобретает официальное государственное признание, ей выплачивается до конца ее дней государственная зарплата и она фактически есть находящийся на государственной службе оракул!
Мы видели, что уже у Сократа принцип ухода мышления с почвы внешнего созерцания и углубления духа в свою субъективность проявлялся антропологически, когда он впадал в периоды оцепенения. Но случай подобного оцепенения известен и у Ванги. Но у Ванги сила внешнего проявления этого принципа еще сильнее, чем у Сократа – физическое выражение необходимости уйти от принципа искусства, от внешнего созерцания к внутренней жизни духа у нее проявляется в том, что ее дар открывается лишь тогда, когда она потеряла свое физическое зрение! Лишь тогда, когда она потеряла всякую возможность созерцать иконописное изображение всеобщего, она обрела свое духовное зрение, зрение мыслью! Следовательно явление Ванги, есть непосредственное выражение необходимости перехода или ухода от чувственного, художественного по своей форме принципа, все еще характерного для всех славян, которым характеризуется и наша религия, к точке зрения внутреннего, определенного в себе самом мышления, каковым является философская форма разумности. Вот в чем заключается благая весть Ванги! Славяне должны не только созерцать и представлять абсолютное, но и мыслить его.
У Гегеля в его лекциях по философии религии мы можем найти мысль о том, что точкой зрения древних была точка зрения судьбы. А точкой зрения христианства – утешение. Мы можем добавить к этому, что современная точка зрения, к которой славянская культура имеет самое прямое отношение, уже превозшла не только принцип судьбы, но и принцип утешения. Ее можно назвать принципом абсолютного утоления. Утоления жажды познания.
Монреаль,
июнь 2009
[1] В 1760 г., 1813 и 1945 т. (Юрий Енцов. Взятие Берлина “на бис”. Сколько раз русские штурмовали немецкую столицу?). См.: http://www.ruscourier.ru/archive/2643
[2] Почему пал Константинополь. См.: http://archiv.kiev1.org/page-219.html
[3] Гегель Г.В.Ф.Философия религии. В 2-х томах.- Т.2. М., 1977, с.150
[4] Олег Сумин. Хегел като съдба // Философията на немския идеализъм в България. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на Генчо Дончев. София 2008. С.192-194
[5] Гегель Г.В.Ф.Философия религии. В 2-х томах.- Т.2. М., 1977, с.150
[6] „Рассказывают, что однажды, …погрузившись в глубокое размышление, он (Сократ – О.С.) простоял, не двигаясь с места, весь день и ночь, и лишь восход солнца пробудил его из его экстаза. …В его лице мы видим вообще обращение сознания вовнутрь, которое в нем, как в первом явившем пример такого обращения, существовало антропологически, между тем как позднее оно сделалось привычкой. …Принцип Сократа состоит, следовательно, в том, что человек должен находить как цель своих поступков, так и конечную цель мира, исходя только из себя, и достигнуть истины своими собственными силами. …В демоне Сократа мы, таким образом, должны видеть состояние, действительно имевшее место, и оно замечательно тем, что не было болезненным, а необходимо требовалось стадией сознания Сократа. Ибо центральным пунктом всего всемирно-исторического поворота, составляющего сократовский принцип, является то, что место оракулов заняло свидетельство духа индивидуумов, и что субъект взял на себя акт принятия решения. – Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн.2.- СПб.: Наука, 1994. С.34-66
[7] Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн.2.- СПб.: Наука, 1994. С.64
[8] См. Петр Вознюк. Венская битва 1683 года: Последняя виктория объединенной Европы. http://www.zn.ua/3000/3150/63964/
[9] См.: Почему пал Константинополь. http://archiv.kiev1.org/page-219.html
[10] Максимилиан Волошин. „Северовосток”
[11] В 325 г. на Никейском и в 381 г. на Константинопольском соборах был принят,т.н. „Символ веры”, который был дефиницией предмета веры христианской религии. В нем было формулировано, что христианство состоит в вере в Св. Троицу: „Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия…И в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равночестно с Отцем и Сыном, говорившего чрез пророков. И во единую, святую, вселенскую и апостольскую Церковь…” В этом виде это определение предмета веры христианства сохранилось и по сию пору, с той разницей, что католическая церковь в 1014 году добавила, что святой дух исходит не только от отца, но „и от Сына” (филиокве).
[12] „Всеобщее здесь (в умозаключении необходимости – О.С.) положено как существенно определенное в самом в себе. …Каждый из этих моментов (всех трех моментов умозаключения: а) качественного умозаключения или наличного бытия б) умозаключения рефлексии и с) умозаключения необходимости – О.С.) обнаруживает себя тотальностью моментов, следовательно, целостным умозаключением; они, т.о., в себе тождественны; …отрицание их различий и их опосредствования составляет для-себя-бытие, так что одно и тоже всеобщее находится в этих формах, а также положено как их тождество. В этой идеальности моментов процесс умозаключения получает следующее определение: он существенно содержит в себе отрицание определенностей, через которые он шествует; он есть, следовательно, опосредствование через снятие опосредствования и смыкание субъекта не с другим, а со снятым другим, с самим собой.” Гегель. Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. I. М., 1975, стр.377-378.
[13] „Объективный смысл фигур умозаключения состоит в том, что все разумное оказывается трояким умозаключением, а именно так, что каждый из его членов занимает место как крайностей, так и опосредствующей середины. Так именно обстоит дело с тремя членами философской науки, т. е. с логической идеей, природой и духом. Здесь сначала природа есть средний смыкающий член. Природа, эта непосредственная тотальность, развертывает себя в эти два крайних члена – логическую идею и дух. Но дух есть дух, лишь будучи опосредствован природой. Во-вторых, дух, который мы знаем как индивидуальное, деятельное, есть также середина, а природа и логическая идея суть крайние члены. Именно дух познает в природе логическую идею и возвышает, таким образом, природу до ее сущности. Точно так же, в третьих, сама логическая идея есть середина; она есть абсолютная субстанция как духа, так и природы, всеобщее, все проникающее собой. Таковы члены абсолютного умозаключения” Гегель. Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. I. М., 1975, стр.373.
[14] См.: Ирина Зотова. Усвоение абсолютной идеи Г.В.Ф. Гегеля: Раскрытие предмета постгегелевской западной философии. Дисс. на соискание ученой степени канд. философских наук. Краснодар, 2009. С.61-79.
[15] Гегель. Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. I. М., 1975, стр.416.
[16] Там же. С.418.
[17] Там же. С.419
[18] …И идут без имени святого
Все двенадцать – вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль…
В белом венчике из роз -
Впереди – Исус Христос.
[19] Гегель Г.В.Ф.Философия религии. В 2-х томах.- Т.2. М., 1977, с.213.
[20] См.: Ирина Зотова. Усвоение абсолютной идеи Г.В.Ф. Гегеля: Раскрытие предмета постгегелевской западной философии. Дисс. на соискание ученой степени канд. философских наук. Краснодар, 2009. С.61-79.
[21] См.: аргументацию В. Макарова: http://sumin.copula.ru/005_Polemika/Sumin_Makarov_2_etap.htm
[22] См.: Олег Сумин. Гегель как судьба России. Краснодар 2005. С.48-64.
[23] См. об этом: Олег Сумин. Отзыв на автореферат диссертации Дм. Бурлаки “Метафизика культуры. Опыт систематизации идей русских религиозных мыслителей” // http://www.sumin.copula.ru/007_Otzyvy/01_Na_Burlaku/Index.htm